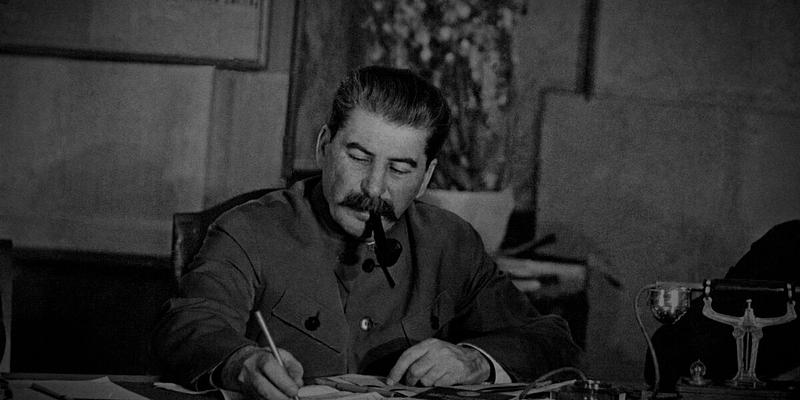Видите, это такое очень странное неравнодушие, сказал бы я прямо. Это просто прямая клевета, мерзость, отвращение. Самое главное, что из этих людей никто Солженицына толком не читал. Потому что если бы они читали, то поняли, что он в огромной степени их единомышленник. Те, кто сегодня упрекают Солженицына во лжи, не знают, что он на самом деле был антизападник, государственник, в последние годы жизни откровенный путинец, так что все здесь не так просто. Другое дело (и это вот мне, скорее, приятно), что Солженицыну не могут простить его главной книги, «Архипелага ГУЛАГ», которая была ударом в главную российскую скрепу — в страх тюрьмы. То, что в России от сумы и до тюрьмы не зарекаются (то, что, кстати, практически никогда не касается иностранных туристов; им очень редко это здесь грозит, это уж действительно надо с ума сойти — чтобы для иностранного туриста стать здесь бомжом: накормят, погреют, отправят на родину, ещё матрешку с собой дадут). Но как раз для российского населения главной духовной скрепой всегда был страх перед репрессивной системой, «государево слово и дело» — самый страшный и универсальный русский пароль.
Солженицын в эту скрепу ударил, ударил радикальнее, чем Короленко и Чехов (даже радикальнее, чем Толстой), и многое пробил. Во всяком случае, он вытащил эту национальную болезнь на обозрение. «Архипелаг ГУЛАГ» был и остается великой книгой, великолепно задуманной, великолепно исполненной, уложенной внутри. Я помню, как Евгения Вигилянская, наш любимый преподаватель, всегда говорила, что в «ГУЛАГе» её потрясает информационная насыщенность и компактность. Уложить такое количество материала в столь удобную для читателя, столь наглядную, столь универсальную схему,— это способность, конечно, математика, А не гуманитария. Это идеально скомпонованный [текст], как если бы машинный архиватор работал бы над всеми бесчисленными письмами, исповедями, публикациями, материалами к делу, с которыми имел дело Солженицын. Это феноменально плотно уложенная и очень точно построенная вещь, которая поражает воображение совершенно. Это как у Данте, понимаете, то, что Мандельштам называл «тринадцатитысячегранником», таким кристаллом «Божественной комедии». Это тоже кристалл колымского льда, очень страшный. И все в него оказалось вморожено. Поэтому главная заслуга Солженицына в моих глазах совершенно не поколеблена ни его антизападной риторикой, ни довольно наивным «Письмом вождям Советского Союза», ни собственными вождистскими его амбициями, ни слабыми текстами последних лет, куда я включаю «Двести лет вместе». Он все равно для меня автор великой книги, которая нанесла великому злу великий урон. Вот этим Солженицын, безусловно, раздражает.
Потому что огромному количеству людей тюрьма нравится. Нравится в первую очередь тем, что берут не их, а во-вторых, постоянный страх, что могут взять, прибавляет единственно возможного перчика в их жизнь. Другим тюрьма не так интересна. Потому что у людей, умеющих что-то делать, есть другие интересы в жизни. А тюрьма — это для тех, кто ничего больше не умеет, кроме как сидеть или сажать. И процент этих людей стал за последнее время в России чудовищно высок.