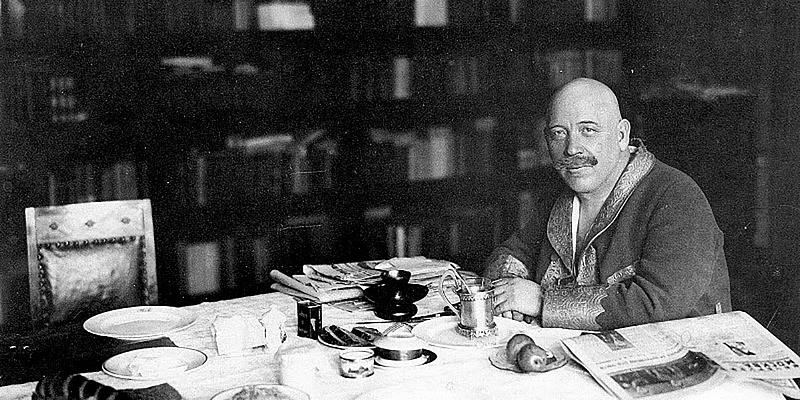Версия о неестественной смерти Горького пошла от одного конкретного эпизода — от его встречи со Сталиным.
Сталин приехал к Горькому, когда тот уже умирал, был фактически в агонии. Но у таких людей, как Горький, понимаете, духовная жизнь очень сильно влияет на физическую. Он при виде Сталина резко оживился. Он уже синел, у него уже был цианоз. Но при виде вождя (они приехали втроем — по-моему, Сталин, Молотов и кто-то еще) он порозовел. Заговорил, как ни странно, о двух темах — о женщинах-писательницах, о том, что нужно поощрять женскую литературу, и об упадке французской литературы и в целом литературы буржуазной, европейской. 15 минут пробыли Сталин и компания у Горького. Он резко оживился, но, видимо, за счет этого оживления быстро наступил упадок сил.
Эта версия о неестественной смерти Горького исходит из двух источников. Одна — когда Сталину понадобилось истребить некоторое количество профессуры, в том числе профессора Плетнева, то был выдуман вот этот вымышленный эпизод с отравлением Горького и его злодейским убийством.
А потом эта же версия обернулась против Сталина — потому что он якобы оставил Горькому конфеты, отравленную бонбоньерку. Эти конфеты ему давала сиделка, по свидетельству Марии Будберг. Ну, свидетельству Марии Будберг, я полагаю, верить ни в чем нельзя. Притом, что женщина она была выдающейся и по-своему очаровательной.
Но никакого отравления Горького не было, по моим ощущениям, просто потому, что у Горького в этот момент уже буквально 4⁄5 площади легких, 4⁄5 их поверхности не работали. Есть совершенно объективное исследование: у него был такой плеврит, так глубоко зашедший, да потом еще и грипп. Отдыхая, он раскладывал там костер, стоял близко к нему. Его продуло, он простудился, и грипп на это наложился. Да он еще, вернувшись с юга, поехал на могилу Макса, своего сына, и долго там стоял.
В общем, он как-то стремился доконать свое здоровье. Он был тяжелой депрессии. У него в дневниках (не в дневниках в набросках) есть такая полоска бумаги — хранится в музее, в особняке Рябушинского: «Конец романа, конец героя, конец автора»,— пишет он о «Жизни Клима Самгина».
У него не вытанцовывался финал романа. Понятно, почему — потому что сноб красиво умирает, но не очень красиво живет. И задумав такой антиходасевичевский роман (потому что в Самгине явное сходство с Ходасевичем), он никак не мог понять, что Ходасевич вот так примитивно не убивается. Нельзя убить такого героя, такого сноба, просто кинув его под ноги рабочей демонстрации. Это неубедительный финал.
Он был в депрессии. Было ощущение, что он не на своем месте в стране. Что он под контролем, что он в золотой клетке. Поэтому свою смерть он, возможно, как-то и ускорял. Хотя до самоубийства это, конечно, не доходило. Он не доверял людям, которые были вокруг него. Он очень тяжело переживал смерть сына, хотя в разговоре со Сперанским и сказал: «Это уже не тема». Но это такая обычная его сдержанность.
Он действительно не очень умел сопереживать, и ценность человеческой жизни было для него относительна. Но он любил Макса. Вот так бывает. Поэтому вне зависимости от его идейных воззрений, он, мне кажется, в старости как-то надломился.
В 1905 году, когда чуть не умерла от перитонита Андреева, он писал первой жене: «Что может значить ценность одной жизни во времена, когда сейчас происходит великая переделка всей России?». И он действительно обладал какой-то душевной глухотой (назовем это своими именами) и некоторым дефицитом эмпатии. Потому что когда он говорит о Караморе, что он чувствует себя под плоским небом, не чувствует в себе души, это было отчасти автобиографично — что уж тут, собственно, скрывать.
Но при всём при этом под старость он стал немного сентиментальнее. Его частые слезы, которые всегда были скорее такой маскировкой, стали, мне кажется, более горячими, более искренними. Поэтому последние годы его жизни прошли в отчаянии. Он действительно как-то двигался к смерти, думаю, с облегчением.
Другое дело, что он до конца оставался последовательным сталинистом. Его помощь жертвам сталинизма сильно преувеличена. Якобы он там мог помочь Андрею Платонову — да ничем он не мог ему помочь, и ничем не помог. Писал утешительные письма: «Всё минется, одна правда останется». Видел в нем прежде всего сатирика, что, в общем, неправда. И Зощенко он ни от чего бы не спас в случае чего. Он никого не мог защитить.
Он был таким убежденным антифашистом. Ему казалось, что Сталин — это единственная гарантия победы над фашизмом, что в мире остались две силы — большевизм и фашизм, и поэтому надо быть на стороне Сталина. К Сталину отношение его было абсолютно апологетическое — судя по переписке, даже раболепное. То, что он не написал книги о Сталине — так вряд ли ему и заказывали такую книгу.
Сталин вообще был человек далеко не такой примитивный. Ему же не понадобилась от Булгакова пьеса «Батум». Он всё-таки не дал команду ее ставить. Отчасти, конечно, потому, что пьеса о Сталине-революционере в эпоху Сталина-монархиста прозвучала бы неким диссонансом. Это всё равно, что сегодня, в эпоху неомонархизма, ставить памятник Дзержинскому — главному борцу с монархией. Это уж просто выстрел в ногу.
Поэтому я думаю, заказывать Горькому книгу о Сталине было нерасчетливо. Поди пойми, что бы он там написал. Сталин вовсе не нуждался в утверждении себя как революционера. Ему, наоборот, нужен был образ себя как стабилизатора, а вряд ли автор очерка о Ленине написал бы о нем нечто подобное.
Горький вообще, хоть и обладал неким чутьем на правду, почему он не дал команды публиковать свою пьесу о шахтинцах «Сомов и другие», в последние годы ничуть не двигался в сторону оппозиционности. Ничего подобного. И Бухарина он, конечно, не стал бы защищать, потому что он с поразительной легкостью (вопрос, искренней или нет) покупался на все эти идеи заговора интеллигенции. Интеллигенцию ненавидел совершенно искренне. Да и вообще убивать его было незачем. И никакого эксцесса исполнителя тут быть не могло.
Иная проблема в том, что Горький вообще по своим взглядам совсем не был гуманистом. Вот все эти разговоры о писателе-гуманисте — он как раз к проекту «человек» относился с еще большим скепсисом, чем Леонов. У него была идея, что человек нуждается в переплавке. Отсюда его очерк о Соловках. Идея, что человек в своей эволюции далеко не остановился, что следующей ступенью этой эволюции будет «человек культурный». Что божество мужское не справилось, и нужно божество женское.
Ведь пафос романа «Мать» и повести «Исповедь» не так уж сильно и отличается. Там нет больших различий. Напротив, и богоискательская «Исповедь», которая так понравилась Гиппиус и Мережковскому, и «Мать», которая вызвала у них такое негодование (прежде всего своим художественным качеством) — это произведения абсолютно одного профиля, одной мысли.
Идея заключается именно в том, что настоящие люди — это так называемые «бывшие», босяки, то есть отвергнувшие социум. Не отвергнутые им, что важно, а отвергнувшие его. Голый человек на голой земле. Современный человек только и делает, что переодевается, как Барон. А вот надо снять, сорвать с него все эти оболочки.
Бога еще не было, но он будет. Конечная цель человека — стать Богом. Или, точнее, конечная цель человечества — стать коллективным Богом. В «Исповеди» есть поразительные по наивности куски, когда мимо церкви проходит рабочая демонстрация, и параличный исцеляется при виде рабочей демонстрации. Почему? Потому что это новый способ — такая человеческая плазма, новый способ применения людей.
Горький абсолютно искренне полагал, что человеческая масса нуждается в переплавке, которая ему померещилась в Соловках, и что главная задача любого политического вождя — это дать людям так сильно преобразоваться, так сильно помешать им жить обычной жизнью, как это удалось Ленину. Вот только в этом смысле Ленин для него позитивный персонаж.
Горький живет надеждой на чрезвычайно масштабный катаклизм, который ионизирует эту массу. Это может быть катаклизм любой природы — социальный, военный, религиозный. Он почему-то, собственно говоря, и в «Сказках об Италии», когда описывает пасхальную ночь, вот это новое состояние толпы — вдохновенная толпа. «И все мы воскреснем из мертвых, смертию смерть поправ». Только он уверен, что это случится при жизни. Что при жизни будет побеждена физическая смерть — медицина ли ее победит, наука ли ее победит. Он верит в то, что царствие небесное возможно на земле, и что люди составят некоего коллективного Бога.
Как философская идея, это идея довольно бедная и, в общем, исходящая из завышенного представления о человеке — о человеке будущем, конечно. Но как художественный прием, как идея сюжетообразующая, она занятна. И в этом смысле Горький был не одинок. Я серьезно полагаю, что и Леонов, и Шаламов, и потом, кстати, очень многие уже на Западе — это носители горьковской идеи. Идеи о том, что человечество находится на пороге решительного эволюционного скачка.
И вот как хотите, а вера в этот эволюционный скачок мне кажется более перспективной, нежели мания всё сохранять любой ценой. Вот говорят: «Вам нужны великие потрясения, а нам великая Россия». Поймите: это вещи взаимообусловленные.