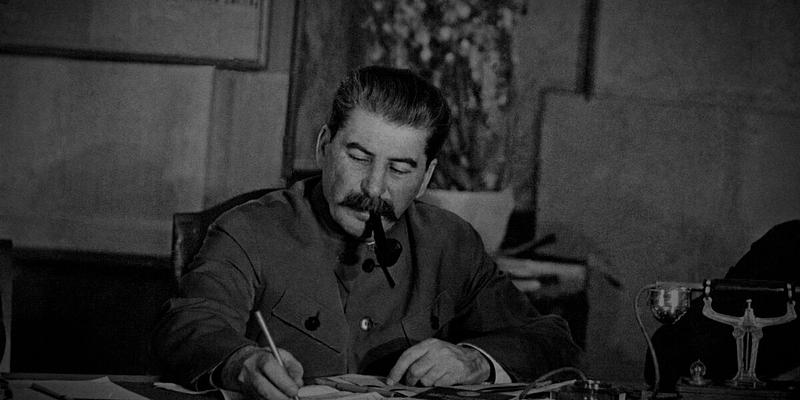«Что делать?» — это роман, о котором Ленин не без основания сказал: «Это книга серьезная, её нельзя читать, когда молоко на губах не обсохло. Он меня всего глубоко перепахал». Что же, собственно, там его могло глубоко перепахать? В романе Чернышевского, очень недурной книге, как мне кажется, во многих отношениях, новаторской… Вообще, он был недурной писатель, умевший писать даже увлекательно. Скажем, «Драма без развязки» — по-моему, просто чрезвычайно безотрывное произведение. Да и «Пролог» недурной роман. И его такой кривоватый и шероховатый слог — это, на самом деле, явление модернистское. Он не то чтобы не умел хорошо писать, он принципиально не хотел хорошо писать, и поэтому не избегает шероховатостей в речи. Но давайте поговорим все-таки о трех пластах, трех слоях, которые в этом романе есть.
Первое, что бросается,— это попытка смоделировать нового героя, который не есть ещё типичный представитель, условно говоря, который не есть ещё человек массовый, но он уже присутствует. Это не только Рахметов. Это, конечно же, и Лопухов, и Кирсанов, и в наибольшей степени это Вера Павловна. Значит, что делать? Себя. Вот и есть ответ Чернышевского. Роман Чернышевского, он не революционен в социальном смысле, он революционен в смысле экзистенциальном. Там вопрос поставлен очень просто: что можно делать в условиях 1863 года, когда пишется роман, когда сам автор сидит в крепости, когда журнал прекращается, когда общество от реформ поворачивается резко к обожествлению Муравьева-Вешателя, когда Герцен оказывается в изоляции, когда, как всегда, на внутренние вызовы дается внешний ответ и гибнет под действием Польского восстания русский либерализм? Даже Некрасов для спасения «Современника» был вынужден тщетно писать оду Муравьеву-Вешателю. В этих условиях публичной общественной деятельностью заниматься невозможно. Хотя многие мои ученики в романе Чернышевского видят цифровые шифры, сложные указания. Там есть, действительно, ряд цифр, для сюжета абсолютно ненужный, возможно, он как-то шифровался. Но для меня очевидно другое. Для меня очевидно, что в условиях политической реакции — единственное, что можно делать, это делать себя, заниматься самовоспитанием.
Ведь чем занимается Рахметов? Мы из романа так и не узнаем. Он занимается в наибольшей степени и с наибольшим упорством и постоянством самовоспитанием. Он ходит с бурлаками, которые зовут его Никитушкой Ломовым, он спит на гвоздях, он читает — как мне представляется, это ключ к роману — книгу Ньютона. И причем не то, что все читают, а его размышления о Евангелии от Матфея и об Апостоле Петре, т.е… насколько я помню, вот это размышление, толкование к Евангелию от Матфея. Это действительно главное богословское сочинение Ньютона. И он видит, что никто эту книгу кроме него не читал. «Я буду читать то, что не читал кроме меня никто». Это интересно, это важно. Мне кажется так же, что именно работой над собой заняты главные герои романа. Фаланстеры или «фаланстеры в борделе», как издевался Герцен, это дело двадцать пятое. А главная тема романа — это их совершенствование… самосовершенствование на разных уровнях. Делать в этой ситуации можно только сверхличность из собственного довольно пластичного материала. Все герои молоды.
Второй слой романа — это социальная утопия, которая как раз представляет менее всего интерес, и хуже всего написаны сны… Веры Павловны. Один сон там имеет некоторый смысл, причем, по-моему, смысл достаточно современный. Это когда женщина показывает ей в поле грязь здоровую и грязь больную. Под здоровой грязью понимается неизбежное зло в человеческих отношениях. Под грязью больной, то есть искусственной, преодолимой понимается зло социальное. То есть больные социальные условия, в которых живет Россия. Вот, собственно, этим социальный смысл романа исчерпывается.
А третья мысль в нем… Можно сказать смело, что в романе «Что делать?» Чернышевский любил «мысль семейную». Мысль этого романа… Ну, как Толстой говорил о своей «Анне Карениной». Мысль этого романа предельно проста. Пока в России не будет разрушена традиционная семья, в ней не будут разрушены и вертикальные схемы управления обществом, и точка.
Это ужасная, на самом деле, мысль, и я понимаю, как многие сейчас многие обозлятся на нее, но эта мысль в романе есть. Дело в том, что мы сегодня почти не спорим о многих вещах, которые служили предметом размышлений большинства русских людей в XIX столетии. Нам сегодня вообще… Мы сегодня живем в такой исторической паузе, в таком зловонии, что нам вообще думать запретили. Нам запретили думать о федеральном устройстве России под предлогом её расчленения, о местном самоуправлении под предлогом разбазаривания земель и децентрализации. Там запретили проводить художественные акции под предлогом оскорбления общественной нравственности. Запретили говорить о боге под предлогом оскорбления чувств верующих. Всё запретили. Сейчас запретят президента Путина вообще упоминать, потому что это всё оскорбление личности. А надо, наверное, говорить о нем, только на колени встав и очи горе возведя. Это нормальная практика, и этого будет очень много. Но это не значит, что вопросы сняты. Когда-нибудь нам придется это все решать. Только оттянутая пружина бьет больнее.
Так вот семейная тема и, соответственно, тема личной свободы и женской эмансипации, устройства семьи, она служила темой размышлений большинства русских классиков. И именно в XIX столетии Толстой в «Анне Карениной» болезненно поставил вопрос о смысле семейной жизни, сохраняется ли этот смысл, если нет любви, и если выхолощена эта жизнь, и имеет ли смысл сохранять формальные приличия, как Алексей Александрович Каренин, для которого всего дороже именно приличия. Соответственно, не менее важная проблема, это проблема, которую ставит Чернышевский — имеет ли женщина право выбора, при сохранении патриархата возможна ли свобода политическая и социальная? Нет, конечно. Больше того, главная мысль Чернышевского в том и заключается, что в России невозможны никакие реформы, пока женщина будет находиться в подчиненном положении. Соответственно, мысль его о том, что структура традиционной семьи должна подвергнуться первой революционному размыванию. Если не будет треугольников и иных фигур — ну, в результате мы так и получим систему, где женщина всегда подчинена, народ — всегда раб, а царь — всегда абсолютная истина.
Я не знаю, до какой степени эта мысль может быть применена к сегодняшней ситуации. Но я хочу сказать, что даже Пушкин считал традиционную семью школой рабства. Это понятно, у него своя травма — воспитание в лицее. Но пишет же он в записке «О народном воспитании», что ребенка можно воспитывать только в закрытом учебном заведении. Потому что чем больше времени он проводит в семье, тем больше опыт рабства он получает. Многие говорят, и мне тоже возражали: он имел в виду крепостную зависимость. Да помилуй бог! Неужели ребенок в семье на каждом шагу видит крепостничество? Ну он видит слуг, но, наверное, это ещё само по себе не является школой рабства. А в среднем классе у нищих господ слуг нет. Он что — не видит рабства? Все равно видит. Потому что в семье господствует та же иерархия, та же система ценностей, которая господствует и в обществе. Это, конечно, колоссальная драма и, можно сказать, кощунство. Для Пушкина, для Толстого, для Чернышевского самый больной вопрос российский — это вопрос семейный. Это вовсе не означает, что я или эти люди каким-то образом предлагают… да, предлагают семью только в формате, значит, той же самой фаланстеры, что семья должна стать такой школой сексуальной свободы и распущенности. Конечно, нет. Но обратите внимание, что и Лимонов в своей «Другой России» утверждает, что без сексуальной свободы (ну, на чувстве собственника) невозможно построить свободное общество.
Из этого можно сделать два вывода. Либо — первый — что семья рано или поздно отомрет. Либо второй — я думаю, всех консерваторов он очень утешит,— что в человеке непреодолимо заложен инстинкт собственника, что страсть к иерархии и порядку сильнее страсти к свободе, и потому политическая свобода недостижима. Политическая свобода — это эксцесс, который был у нас в 1990-е годы, но больше так не будет никогда. А, скажем, семейный консерватизм Америки, он потому и оказался так живуч и надежен, что Америка и сама по себе весьма консервативная страна, в которой кратковременные приступы свободы немедленно сменялись довольно жестокими закрепощениями. Ведь это в Америке был маккартизм. Ведь это в Америке сегодня трампизм. И говорить о том, что в Америке есть все институции, гарантирующие личную свободу — довольно сложно. Как видим, Америка в этом смысле тоже очень уязвима.
Поэтому роман Чернышевского остается абсолютно актуален для нашего времени. Потому что главный инстинкт, basic instinct человека — это вовсе не инстинкт смерти или не инстинкт размножения, а это желание порядка, желание собственности, желание унавоженной семейной нивы. Господа Этремоны, по Набокову, «увкуснюсенький обед», домашние развлечения, ну и примерно та политическая система, которую мы имеем сегодня в России с поправкой на беспредел, которого лучше бы не было.