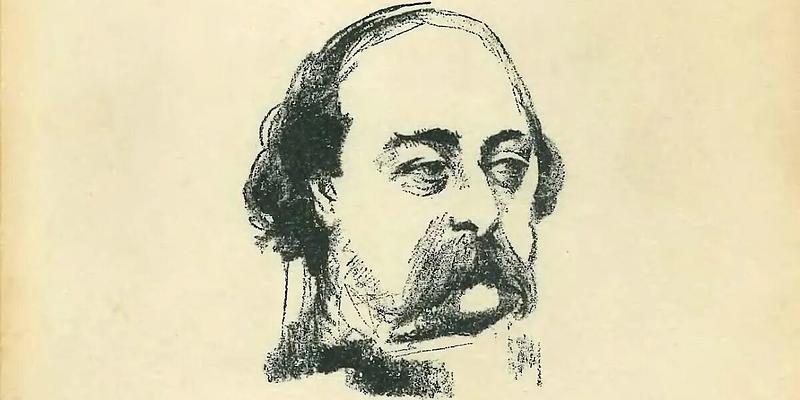Кот задает в литературе мировой образ такой значимой альтернативы псу, то есть это свобода в заданных рамках. И это идеал большинства людей. Именно поэтому котики в Инстаграме пользуются такой славой. «Рожденная свободной», как у Джой Адамсон, львица — она для большинства недостижима. Домашний лев — это все-таки почти всегда катастрофа. А вот домашний кот, одомашненный лев — это удобная модель поведения.
Это и ручная отформатированная оппозиция, которая ходит туда, куда ей разрешили, и говорит то, о чем разрешили. Вот ей разрешили говорить, что фонарь в третьем по счету переулке, в 3-м Проектируемом проезде не говорит. И она смело во время прямой линии говорит: «Не горит фонарь!» — и его тут же зажигают. Конструктивная критика? Конструктивная, да.
Это женщина, например, которая чувствует себя свободной, живя за счет мужа, но при этом демонстрируя свою независимость от него.
Это писатель, который ходит на поводке, но периодически мяукает что-то такое, что не укладывается в парадигму, и даже его начинают пускать в телевизор.
Это катастрофическое, в общем, состояние, потому что это полусвобода, которая хуже несвободы. «Всегда,— как говорит Пастернак,— естественно стремиться к чистоте». Как говорит тот же Хармс: «Мне в мире всего дороже чистота порядка». Кот, который считает себя хозяином квартиры, но при этом при первом «брысь!» немедленно забивается под кровать,— кот меня всегда, честно говоря, раздражал. Раздражает меня в кошках многое, и раздражает прежде всего вот эта видимость царственности при абсолютной зависимости.
Собака честно служит. Собака — это даже не слуга. Собака — друг, действительно. И в каком-то смысле собака многое умеет и понимает лучше меня. Помните, как Ласка лучше Левина понимает, где сидят бекасы, но он уводит её от того бесконечно интересного и вкусного, что она чувствует. Собака — это не более чем душа. Вот у Тургенева, например, в его охотничьей прозе и в «Муму», и особенно, конечно, в рассказе «Собака» (имею в виду не стихотворение в прозе, а рассказ 1864 года), это рассказ как раз великий. И собака — это душа. Писатель — это охотник. Он охотится на людей, на детали, на пейзажи, он все время в процессе такой вечной ловли. А собака — это душа охотника, это его чуткий бессловесный, но безошибочный нюх. Поэтому Муму — это душа Герасима. И не убив свою душу, он не может освободиться.
Кошка — совсем не душа. Кошка — иное дело. Кошка — это, если угодно, спроецированный вне вас такой образ идеала. Вы хотели бы быть, как она. Вы хотели бы быть грациозной, пушистой, дикой. Вот я помню, что в замечательной слепаковской пьесе «Кошка, которая гуляла сама по себе» по Киплингу, там были написаны куплеты кошки, которые кошка пела на мотив «Марсельезы», вышагивая по крутящейся сцене:
А наутро, потешно мурлыкая,
я взберусь на колени к тебе.
Я ручная, но все-таки дикая,
и гуляю сама по себе.
Вот этот великолепный спектакль был как раз таким ну очень диссидентским по сути. Неслучайно там упоминалось мышиное масло, mouse oleum, и вообще много было таких замечательных подколок в духе Ленинградского ТЮЗа. Но суть-то была в том, что это именно сатира на комнатную интеллигенцию. Она считает себя хищной, но она прикормленная. И помните, за блюдечко с молоком она многие свои идеалы готова продать.
Кот… Я напоминаю кота Мурра у Гофмана. Кот — это немножечко такой образ филистера. Он мещанин, бурш. Он, собираясь на крыше с другими котами, орет вольнолюбивые песни, напившись ледяного рассола. Но он зависим от Крейслера, он зависим от хозяина. Он вписывает свои мемуары между строк его документов. Кот… Я не говорю сейчас о реальных котах, я говорю именно об архетипе, образе кота. Кот — это образ уютной и приемлемой независимости. Может быть, и Бродский потому именно так любил котов и не случайно звал своего кота Миссисипи, потому что в кошачьем имени всегда должно быть приманчивое шипение,— кот потому, вероятно, так нравится Бродскому, что это именно образец независимости. Но пределы этой независимости он всегда осознает.
Понятно, что собак любить в Советском Союзе было предписано. Пограничный пес Алый, Мухтар, Джульбарс — это все герои. Кошка — это символ противопоставления личной независимости. Но надо прекрасно помнить всегда, что кошка эту независимость очень тщательно блюдет и никогда не переходит её пределов. Особенно любопытно, что кошка иногда, убегая от собаки, способна заползти по дереву так высоко, что потом она не может слезть — её приходится снимать со спасателями. Мне, по-моему, Шойгу ещё в бытность министра МЧС рассказывал о нескольких таких случаях, когда спасателей вызывали на кота, потому что кот залез, сбегая, а слезть не может, и его жалко невыносимо.
Это немножко такая метафора из «Осеннего крика ястреба» Бродского, где птица в поисках независимости залетает так высоко, что не может вернуться. Вот у советского диссидента тоже бывали некоторые случаи, когда он, спасаясь, вдруг проявлял такие чудеса храбрости, что сползти уже не мог. Это в кошке тоже по-своему трогательно. Да и вообще кот трогателен. «С котенком вся проблема в том, что он становится котом». Трогательный маленький пушистый котенок — это бесконечно грустно. Но потом это вырастает в огромного наглого жирного кота — и это ещё грустнее.
То, что кот Бегемот сделан таким обаятельным героем… Давайте не забывать, что кот и козел — это два вечных спутника дьявола. И не случайно Козлевич в «Золотом теленке» топологически и типологически соответствует Бегемоту в «Мастере и Маргарите». Потому что ясно, что Азазелло — это Балаганов, Коровьев-Фагот — это Паниковский с его канотье, а Бегемот и Козлевич — вот два таких… Они отвечают за технику: Козлевич все время починяет «Антилопу», а кот починяет примус, никого не трогает, примус починяет. Это два символа сатаны, два его архетипа. И помните, огромная козлиная морда появляется в «Звезде Соломона» у Куприна. Ну и огромный кот появляется рядом с Воландом.
Он обаятельный, конечно, кот, расчесывает усы гривенником. Но давайте не будем забывать о том, откуда этот кот взялся, и куда он потом возвратится. Потому что действительно культ черного кота, культ вообще кошачести, в том числе и в себе, он до известной степени присущ дурновкусным девушкам, желающим свободы в рамках, и поэтому они так любили «Мастера и Маргариту». Потому что это советская бесовщина, советская демонология, такая демонология, которая должна была понравиться Сталину. Поэтому она и существует в рамках советского книгоиздания. Если бы это была антисоветская книга, никогда бы она не появилась у нас в России. Но она глубоко советская книга, и вот это надо понимать. Если уж на то пошло, то «Золотой теленок», написанный раньше, гораздо более антисоветское произведение.
И наконец, частое упоминание котов в лирике. Понятно, что классическая самая в этом смысле книга — это, конечно, цикл стихотворений Элиота «Cats», которые потом стали основой известного мюзикла. Ну и Макавити, великий кот, и все остальные таинственные его персонажи. Почему именно они стали метафорой современного общества?
Да, в наше время действительно в парадигме «Чай, собака, Пастернак» и «Кофе, кошка, Мандельштам» победили вторые — победили коты. Почему? Потому что пес — это простая, грубая, жестокая стратегия, стратегия преданности. А кошка — это мягкое, гибкое, бесконечное разнообразие женских стратегий. Как правильно говорит Максим Суханов: «Сегодня время гибкой мягкой силы, женской силы». Вот эти женские стратегии удержания власти, чередования ласки и угрозы, шантажа и сантимента, и ещё, конечно, жадности — это кошачье. Коты победили, потому что они богаче и разнообразнее.
Ну и потом, они кавайнее, понимаете. Толстый кавайный няшный котэ — он ничего от вас не требует. Он воплощение расслабленности. «Люби меня таким, какой я есть — или уж тогда желаю вам другую». Конечно, ахматовская стратегия, условно говоря, победила цветаевскую, потому что Ахматова умеет выглядеть, а Цветаева умеет сформулировать. Умение сформулировать никого ещё не делало счастливее. Я остаюсь верным приверженцем собак, который несколько вчуже уважает кошек.