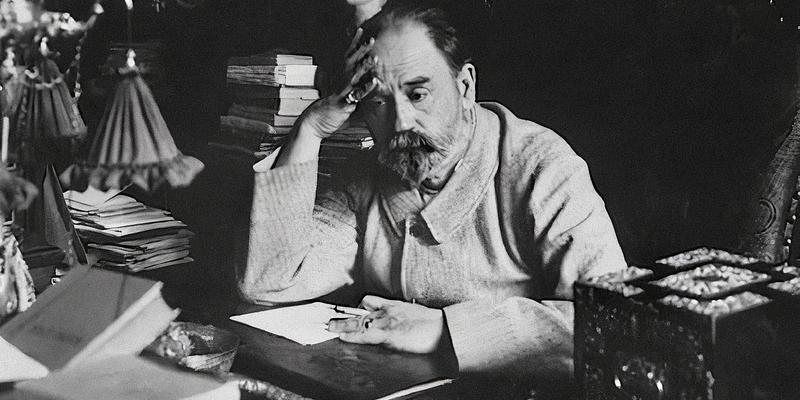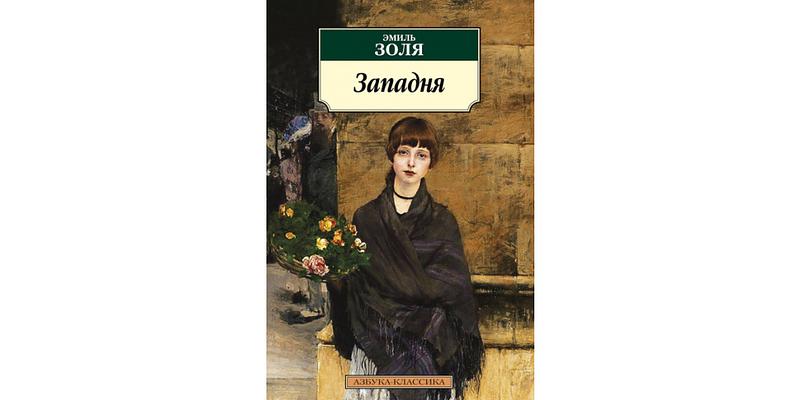Жолковский как-то мне сказал: «За то, что вы прочли всего Золя, вам можно простить то, что вы написали всего Быкова». Золя для меня был всегда не скучным писателем, не социальным писателем, а в большей степени поэтом. Потому что это тот случай, когда натурализм, доведенный до абсурда, переходит в свою противоположность, переходит в поэзию. Некоторые страницы Золя (в «Западне», в «Чреве Парижа», я уже не говорю о «Карьере Ругонов» – моем самом любимом романе). В «Карьере Ругонов» – благоуханная история подростковой любви. Сильвер и Мьетта – это два моих самых любимых героя. И вот эта крестьяночка 13-летняя… Я вообще больше всего люблю «Карьеру Ругонов». «Ругон-Маккары» в целом – титанический замысел, страшный финал, в котором тетя Дида, умирая, бормочет: «Жандарм, жандарм», мечтая увидеть призрак этого жандарма. В «Докторе Паскале» для меня очень многое сошлось. И, наверное, для меня Золя – во-первых, это лучший, самый поэтичный и самый по-настоящему экстатический поэт физиологии. Ни у кого трагедия пола и притягательность, благоухание пола, – ни у кого они не выражены с такой силой.
И, конечно, при этом Золя – удивительный поэт безумия, творческого безумия – в «Творчестве» (это, наверное, лучший роман о художнике, когда-либо написанный), ну и безумия маньяческого («Человек-зверь» – это очень здорово, лучший роман о маньяке). Мне вообще кажется, что в описании страсти, патологии Золя совершенно нет равных. В этом плане он первый модернист, такой серьезный, прицельный и научный анализ, патологический анализ страстей и одержимостей, – тут ему нет равных. Конечно, он гениальный хроникер третьей империи, второй империи. Гениальный хроникер ее падения, ее отчаяния и распада. Я думаю, что «Разгром» – один из лучших военных романов. Именно потому, что там есть ощущение такого заслуженного краха мира. Мир лжив, фальшив, извращен, развратен, и на него пришел крах. Золя – это такой поэт Вавилона, который гибнет по заслугам. Но в самой этой гибели есть упоение.
Когда он описывает Нана, там, конечно, апофеоз всего – последняя страница. Помните, «Венера разлагалась», когда лежит Нана, умершая от оспы, описанное ее обезображенное болезнью лицо, гнойные опухоли, вытекший глаз… И вот эта разлагающаяся Венера – это лейтмотив всего творчества Золя. Это есть, кстати говоря, и у Маркеса. Это сочетание цветения и разложения. «Запах свежий и тлетворный, застоявшейся весны», как у Слепаковой. Запах свежий и тлетворный. У Маркеса – это благоухающие и при этом вечно гниющие под дождем джунгли, эти плоды, наливающиеся, лопающиеся от сока и гниющие. И такая же страсть, такая же жизнь Макондо, одержимость и гниение.
Собственно, у Золя – это аромат порока, что говорить. Когда он описывает жаркий день в «Чреве Парижа» на парижском рынке, этих червей, которые выползают из сыра (этот знаменитый сыр с червями, его утонченное и при этом гнилостное благоухание), все эти гниющие на глазах, только что свежие и прекрасные, но вот уже гниющие рыбные, сырные, соляные ряды, – это такое изобилие цветущей плоти, которая на наших глазах начинает гнить и разлагаться. В каком-то смысле Золя – главный летописец европейского упадка конца века. Если бы он дожил до Первой мировой войны, никто бы лучше него не описал Первую мировую войну. Потому что Первая мировая – это следствие колоссального избытка во всем. И вот это гниющее изобилие очень отчетливо чувствуется в «Творчестве».
Роман «Творчество» – это роман о том, как гениальный художник отравлен и безумием, а главное, собственной манией несовершенства, самокритикой, стремлением к совершенству безумным. Ведь две главные линии «Ругон-Маккаров» – это линия, условно говоря, карьерная, здоровая, такая сангвиническая линия Ругонов и холерическая линия Маккаров – авантюристов, контрабандистов, преступников, алкоголиков, маньяков. Они, сливаясь, дают поразительный образ Франции. Ругон-Маккары – это вырождение одной семьи, это вырождение Франции, которой одинаково присущ буржуазный дух «ругонства» и авантюристский дух «маккарства».
Знаете, почему, например, Мопассан относился к Золя с такой любовью и ненавистью? Это была во многом самоненависть. Мопассан не мог не увидеть в себе, в таком «руанском бычке», здоровяке Маккаров, отравленных. Понимаете, отравленная кровь Маккаров (а они еще гемофилию носят в себе), отравленная кровь Аристида, отравленная кровь контрабандистов, отравленная кровь тетушки Диды, – это же все линия нарастающего вырождения и безумия, которая происходит не от биологических причин. Это именно распад и гибель великой перезревшей культуры. Культуры, которая переусложнилась, которая падает, как Вавилонская башня. Представьте себе, что Вавилонская башня падала бы под собственным весом, под собственной тяжестью.
Примерно также европейская культура при переходе в модернизм, достигнув высшей точки, гниет и разлагается. И вот Золя гениально описывает это разложение. В «Накипи», которая вся пропахла этими испражнениями огромного дома, его тайными болезнями, сплетнями, изменами, его непристойностями, всеми этими служанками, которые рожают в ночной горшок, не понимая, что с ними происходит. Все это именно чрево Парижа, чрево мира, в котором мы задыхаемся. Но при этом у него есть еще – как бы оттеняющая эту линию – поразительная сентиментальная чистота. Например, вся линия Жанны в этой истории… Как же у него назывался этот роман? А, «Страницы любви». Вот там здоровая мать, такая нормальная, трогательная, простая, жаждущая любви и счастья… И ее больная, с чертами козочки, рано умирающая, прелестная и истеричная, противная девочка Жанна. Вот такая линия болезненной чистоты.
Иногда это перерастает в религиозный экстаз, у него есть абсолютно религиозные, экстатические романы. Дело в том, что, наверное, в известном смысле нарушенный в человеке баланс огня и глины (о котором говорится в Книге Еноха, о котором писал Леонов) – может быть, это и есть диссонанс «ругон-маккрарства». Нарушенное соотношение идеализма и душевного здоровья, укорененности в жизни.
Потому что в чем минус Ругонов? Они бесконечно приземлены и они самодовольны. В этом дурное. А Маккары – это всегда порыв к чему-то небывалому. И вот переплетающиеся две эти линии очень редко дают здоровое потомство. Может быть, там один уникальный случай – в романе «Радость жизни». Но в остальном Золя как художник не знает себе равных, когда он описывает вот этот брак Эроса и Танатоса, когда он описывает любовь и смерть в одном флаконе.
В «Жерминале» потрясающая сцена, когда в глубине шахты, заваленной, последний раз любят друг друга главный герой и девка эта шахтерская, прелестно описанная. Она бредит и умирает, а он спасается. Но этот их любовный акт на глубине, в шахте, среди струй воды, на грани гибели (то, что он спасся, – это счастливое чудо), вот это падение в страсть как в бездну, – это написано, конечно, гениально. При этом может иногда показаться, что это дурновкусие.
У Золя, наверное, как у всех гениев, было со вкусом не очень хорошо. Но нельзя не испытать восторженного трепета, когда ты читаешь, с какой мощью он живописует это. И, конечно, в год писать по роману, изучая настолько глубоко все сферы жизни, оставив такую подробную хронику… Вот если бы не было в это время французской литературы вообще никакой и остались бы от второй империи только «Ругон-Маккары», – уверяю вас, это была бы вполне равнозначная замена.
Но, как говорил Святополк-Мирский: «Если бы от всей русской литературы остались только «Двенадцать» Блока, это была бы замена равноценная».