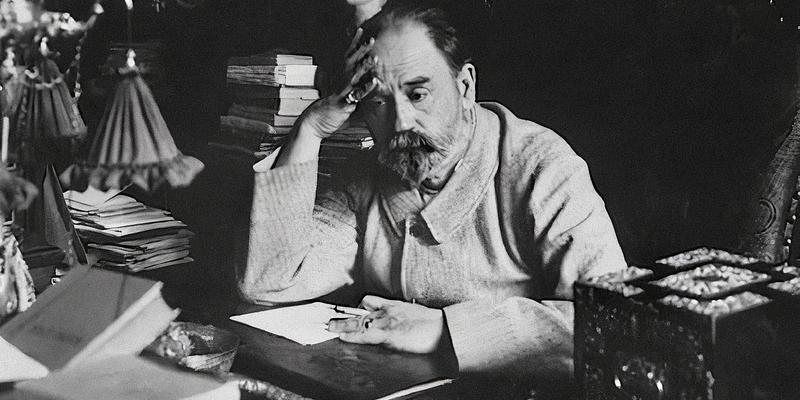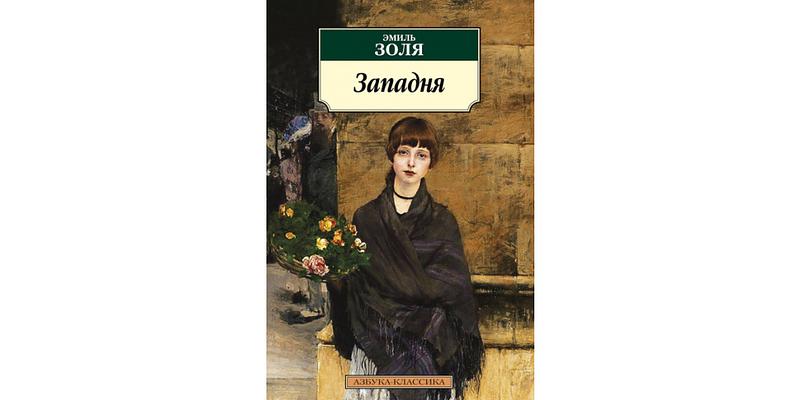В двадцатом веке не имел, потому что был слишком масштабен и сложен для двадцатого века, все помнили только дело Дрейфуса и «J’accuse…!». А что касается наших дней, то здесь, мне кажется, мы наблюдаем удивительное расслоение, потому что Золя для большинства абсолютно темен и нелюбим. Но интенсивно эволюционирующее меньшинство обожает Золя, и я всегда среди своих студентов четко могу сказать: «Вот этот будет читать «Ругон-Маккаров» и полюбит, а этот нет, и все, кого я подсадил на «Человека-зверя», на «Чрево Парижа», на «Западню»; в том числе, кстати, и на «Доктора Паскаля», они очень любят и чувствуют Золя. Золя — писатель будущего, и те, кто к этому будущему стремится и принадлежит, как-то вот…
Это был мой вечный спор с Иваном Семеновичем Киуру, мужем Новеллы Матвеевой, который говорил: «Как вы можете говорить о Золя, когда есть Гюго?». Он вообще Гюго обожал, цитировал огромными кусками и прозу, и стихи, и «Человека, который смеется» он считал просто величайшим романом, и правильно делал. А уж «Труженики моря» — поэма, как он говорил. Все правильно. Но как можно читать Гюго, когда есть «Ругон-Маккары»? Этого я тоже никогда не понимал, грешным делом. Мне представляется, что «Ругон-Маккары» — величайшая эпопея девятнадцатого столетия. Хотя в России отношение к Золя традиционно и у Толстого, и у Щедрина было очень критичным. Я думаю, что это ревность.