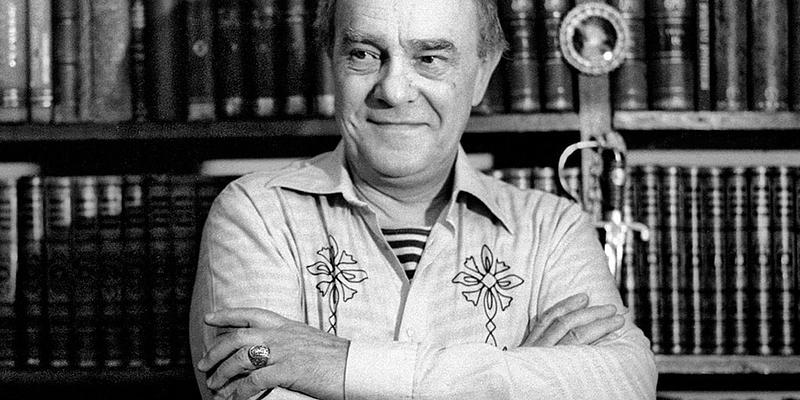Понимаете, сейчас модерну дается, как правило, такое уничижительное определение, что модерн – это разрыв с традицией. А традиция – это по умолчанию, по определению хорошо. А модерн включает в себя разрыв с традицией, по определению. Но я рискнул бы сказать, что это трудный, сложный, долгий, мучительный разговор, потому что модернизм сам по себе – явление довольно демоническое. И модернизм возникает именно там, где традиция уперлась в тупик. Люцифера или Прометея зовут на помощь, когда ничего другое не помогло.
Да, в российской культуре случилось так, что традиция, славянофильство, сороковые годы уперлось в запретительство, уперлось в будущее. И тут понадобился модерн как решение всех проблем. Но модерн – горькое лекарство, которое во многих отношениях может оказаться хуже самой болезни. И европейский модерн, и русский модерн – явление демоническое, отчасти дьявольское.
Модерн включает в себя, во-первых, веру в прогресс, в будущее и, конечно, отрицание прошлого. Веру в движение: движение – все, конечная цель – ничто. Это определенное презрение к человеческим отношениям: модернист очень не любит испытывать предписанные эмоции. Главный герой «Постороннего» Камю – классический модернист. Он не понимает, почему у него нет эмоций по поводу смерти матери.
Модернист является главной темой в изображении самого автора. Главная тема в постижении самого себя – это «почему я ничего не чувствую?» Вот модернистский герой «Коня бледного» у Савинкова удивляется, почему он ничего не чувствует, когда любимая женщина признается ему в любви, а потом он идет на смерть. Почему он для нее все, а она для него ничто. Как и движение – конечная цель.
Модернисту очень важно понять, почему он предает и ничего не чувствует. Вот герой «Караморы» Горького не чувствует угрызений совести. Он все нащупывает возможные пределы себя: а вот это я могу вынести, а вот это я сделаю? Да, это модернист, для которого нет традиций, для которого нет традиции прежде всего моральной.
Модернист интересуется результатом, а не ценой его. И вопрос о цели и средстве для модернизма не стоит. Модернист – это конструктивист: сделай или сдохни.
Он встанет на стройке,
Как техник и жмот,
Трясясь над кривыми продукции.
Он мертвыми пальцами дело зажмет,
Он сдохнет – другие найдутся.
Это знаменитые слова Владимира Луговского. И, в общем, он сам всего лишь кирпичик в строительстве здания будущего. Он, конечно, одержим идеей культуры и даже идеей третьего завета культуры. Но – и это важно – эстетика для него вещь второстепенная. Для него на первом месте стоит идея культуры как просвещения, культуры как преобразования мира, но именно идея преобразования («природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник») подрывает, по-базаровски, его отношение к эстетике. Культура для него – это прежде всего окультуривание жизни, быта, иными словами, вмешательство человека в природу. Вот это культура. Для него два вмешательства есть в жизни – это природа и культура. Модернист природу ненавидит, потому что природа – это, вообще говоря, такое царство нераспадающейся животности. Природа беспощадна к тому, что делает человек.
Оставьте любую дачу (да что там дачу, любое здание) недостроенной лесу – и вы увидите через три года, во что оно превратится. Это как природа сожрала город Припять и его окружение, Чернобыль. Она это сожрала, потому что город был покинут людьми. Символ модерна оказался сожран символом архаики. Архаика ведь абсолютно беспощадна. Стоит вам на секунду остановиться, на секунду перестать шевелиться – и она вас съест попросту.
Модернист, не любя природу и поэтому преобразую ее, примерно так же, как и к сырью, относится к человеческим отношениям. Полезно – хорошо, бесполезно – неинтересно. По моим ощущениям, так вообще Ленин как классический пример модерниста и к семье относится не как к данности. Модернист на место семьи водружает забавные треугольные или многоугольные конструкции. Ленинский треугольник, треугольник Маяковского, треугольник Некрасова, Михайлов-Ларионов. Нет, треугольник там строился несколько иначе, об этом Евгений Богат писал. Нет, не Ларионов, это другая история. Шелгуновы, Михайлов и Шелгуновы. Хотя тоже очень интересно.
Дело в том, что для модерниста традиционный семейный союз предполагает верность, безусловно, но он не ограничивается супружеской лояльностью. Это верность в более высоком смысле. Известно, что Берберова повторяла многим собеседникам: «Мы с Владей Ходасевичем разошлись в быте, а не в бытии». В бытии они остались вместе, даже когда у Ходасевича появилась Марголина, а у Берберовой после долгих попыток выбора появился ее постоянный ее художник и адвокат-любитель.
Мне кажется, для русского модерна характерна колоссальная духовная верность при абсолютной физической распущенности. И это модернистское правило, когда природа, то есть секс отдельно, а любовь отдельно. Коллонтай могла проповедовать эту простоту физиологического удовлетворения как истинная модернистка, именно потому что для нее это не затрагивало главного, не затрагивало сердце. И в этом плане русские модернисты были, наверное, почти рыцарями. Они своей любви оставались всегда верны, как Маяковский. При том, что в плане личном там господствовал полный гарем, как у того же Маяка было. Он не упускал случая очаровать любую женщину на своем пути. И очаровывал, и набрасывался, ему это было зачем-то нужно (как подтверждение своей уместности в мире), но это не затрагивало любви к Лиле.
Модернисты – это обычно неприятные люди. Но, опять же, надо помнить, что модернисты, демонизм, демон поверженный – это все возникает там, где образовался тупик на пути нормального развития, где нормальное развитие уперлось либо в самообожание, либо в цензурный запрет, либо в консерватизм, то есть туда, где не получило развитие органического. Вот там, где это развитие есть, там нет модерна. Модерн – это последнее средство оживить мертвую культуру. Но если это средство не сработало, как в России, возникает все то, что я и написал, главный русский парадокс: «И земля все это схавала за два десятка лет, ибо свой завет у Павла, а у Савла свой завет. Есть обратная дорога отступившимся от бога, но предавшим даже дьявола другой дороги нет». Россия умудрилась предать даже дьявола – собственно, об этом и моя книга. А что делать дальше? Дальше эта культура, видимо, со всеми своими усадебными ресентиментами будет стерта, она останется как объект изучения, но как объект продолжения уже не существует. Надо делать что-то другое.
Наверное, прав Лев Оборин – мне очень понравился его последний обзор поэзии 80-х, 90-х, 2000-х на «Полке», где он показывает, что, наверное, эта литература отчасти существовала не просто в постсоветском, а в построссийском пространстве. Она нащупывала какие-то темы, которые, строго говоря, уже русским назвать нельзя. Потому что, действительно, сколько можно цацкаться с проблемой тоталитаризма? Проблема тоталитаризма снята с повестки, она показывает очень наглядно, к чему любой тоталитаризм рано или поздно приходит. Он приходит к войне. Он не может существовать без войны, потому что для него это главный инструмент самосохранения. В этом плане, особенно в ядерную эру, он становится опасен для окружающих.