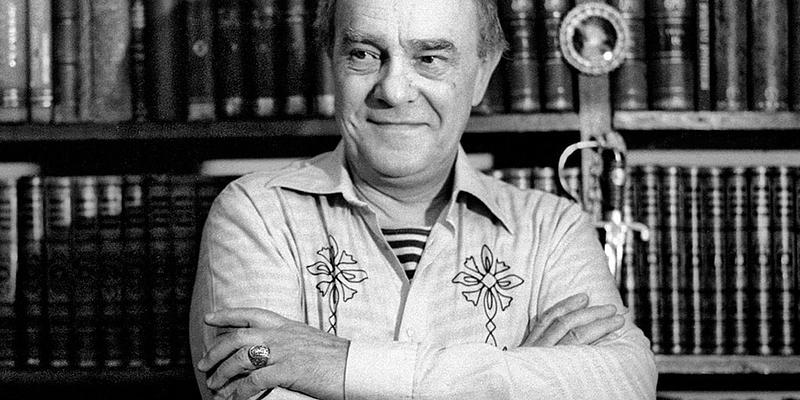Жестокий был спор. И вообще… Ну, Кантор — сильный лектор, её не отпускали часа три, там она ещё отвечала на вопросы, хотя я уж и так, и сяк кричал, что караул устал, но тем не менее мы доспорили. Что касается нашей с ней полемики, она происходит по одному вектору, по одному разделению, и довольно очевидному. Мы, пожалуй, сходимся на том, что революция эта не осуществила ни одной из своих задач: ни рабочим не достались фабрики, ни крестьянам — земля и хлеб, ни мир — народу. Ничего не произошло.
Но я настаиваю на том, что даже против всякого желания Ленина, который ни секунды не был романтиком, эта революция подарила нации наивысший духовный взлет за всю её историю. Вот на этом я настаиваю. Потому что не важно, понимаете, не важно, какой разрухой это все закончилось; важно, что на протяжении полугода как минимум люди действительно слышали музыку революции. И Пастернак, который написал о Боге «Здесь, над русскими, здесь Тебя нет» в стихотворении весны семнадцатого года, после убийства Шингарева и Кокошкина, он все-таки этим летом написал «Сестру мою — жизнь» — книгу о чуде революции. За одно то, что Блок написал «Двенадцать», Русскую революцию уже надо считать великим духовным событием, событием, когда был разрушен 700-летний гнет. И каким бы ни был новый гнет большевиков, было время освобождения — очень недолгое, но люди успели надышаться этим кислородом, попасть под это облучение.
Хотя ни образовательную, ни национальную политику советской власти Кантор не оценивает положительно. Ну, она в своем праве, в конце концов. И она же историк. её дело — факты излагать. А её личное отношение саму её занимает очень мало. Это была довольно жестокая такая полемика, довольно интересная. И мне очень понравилось, что зал в нее включился, что её начали заклевывать. Она героически отбивалась. Ну, это был такой интересный опыт. Я думаю, что мы эту лекцию повторим, потому что там действительно люди висели друг на друге и не расходились, что меня поразило больше всего. То есть назрел, видимо, этот насущный разговор — причем общий разговор, не только лекторский монолог, а общий разговор — о том, что такое были события семнадцатого года. Вот это для меня очень принципиально.