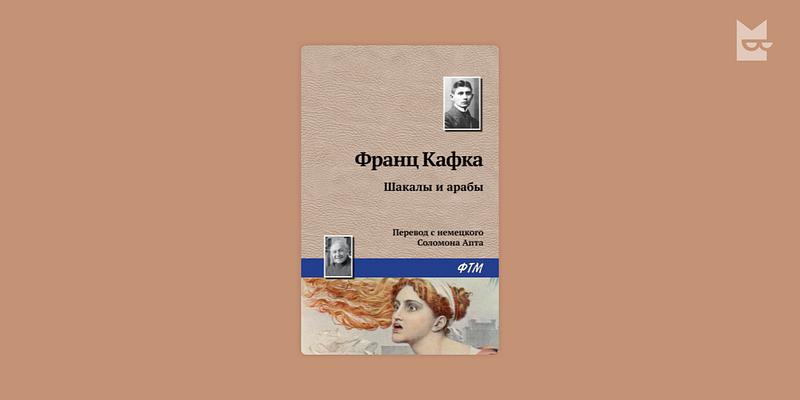Поговорим про двух наиболее близких, как мне кажется, писателей-модернистов. Просто они какая-то копия друг друга — и по склонности к обработке фольклорных сюжетов, и по доминирующему чувству вины, очень типичному для модерниста, и по сюрреализму своему. Это Кафка и Акутагава. И они прожили почти одновременно, и умерли почти одновременно. И смерть Кафки от туберкулёза тоже, конечно, сродни самоубийству Акутагавы. И вся жизнь Кафки самоубийственная. Это безумная такая саморастрата, самоограничение совершенно монашеское.
Кстати, вот Набоков в своих лекциях о Кафке вспоминал, что он ездил с ним довольно часто в одном вагоне Берлинского метро. Он сразу узнал его, увидев на фотографии, потому что эти воспалённые огромные глаза вперялись в него напротив. И у него не было сомнений, что это именно он, особенно когда он узнал, что в этом районе Кафка жил с Дорой или ездил туда к Доре на свидания. И вот Набоков задаётся вопросом: «Что я мог бы ему сказать?» Нечего сказать было. Только одно, наверное: что вот тот жук, который у него описан, навозный жук… А он по множеству примет полагал, что в «Превращении» именно навозный жук имеет место — с его куполообразным хитиновым покровом, с его спинкой круглой, с его лапками, даже с его пятнышками на брюхе. Он говорил, что у этого жука есть крылья. То есть, в конце концов, он мог улететь и присоединиться к другим радостным жукам, которые катают свой навоз.
И вот об этом шансе Кафка не подумал. Ну, наверное, он действительно не знал. И кстати, по сравнению с Кафкой Набоков отличается прежде всего тем, что он летает, что его мир гораздо более воздушен. Он бабочками интересуется больше. И у него Грегор Замза из «Превращения», скорее всего, превратился бы в чудесную бабочку, которая в рассказе Набокова «Рождество» и начинает улетать.
Так вот, Кафка — один из самых мрачных, естественно, авторов европейского модернизма. И вот здесь надо отметить одну закономерность. Самый яркий модерн всегда появляется в самых традиционалистских культурах — там, где он противопоставлен этой традиции, там, где он борется с архаикой. Поэтому этот модерн обладает всегда двумя принципиальными чертами: с одной стороны, он бесконечно ярок и многообразен, а с другой — он страшно отягощён чувством вины перед семьёй, перед культурой, перед наследием.
Ну, это русский вариант, конечно, потому что Россия очень архаична в момент появления там символизма и Серебряного века. Это вариант, конечно, японский, где группа «Белая обезьяна» породила целую груду великолепных текстов и самую яркую фигуру — Акутагаву, который тоже всё время томится комплексом вины и в конце концов приходит к мысли о самоубийстве. Потому что знаменитая фраза «У меня нет убеждений, у меня есть нервы» — это как раз порождение того, что он прежде всего невротик, томимый страшно ощущением навязанной виноватости перед родительской культурой, перед отцом и матерью, перед всеми. И чувством вины диктуется всё, что написал Акутагава в Японии.
Та же история в Скандинавии, которая очень консервативная. И именно на волне этого консерватизма появляются такие фигуры, как Стриндберг, как Ибсен, отчасти как Лагерлёф, конечно. Ну и несколько позже такие. Вот этот нобелевский лауреат Пер Лагерквист, автор «Карлика», «Палача», «Вараввы». Тоже последний из великого скандинавского ренессанса. Это всё диктуется архаизмом.
И вот Кафка, принадлежа сразу к двум архаикам (с одной стороны — к архаике имперской, австро-венгерской, а с другой — к еврейской), Кафка, томимый всю жизнь чувством своей неправильности, противозаконности… Как он говорит: «Я — kavka, галка, самая беспородная и самая бесприютная птица»,— говорит он в разговорах со многими собеседниками, с Бродом в частности, вот с этим, который «Диалог с Кафкой» написал.
Это знаменитая на самом деле тема — его абсолютная неприкаянность ни в еврейской традиции, к которой он всё равно принадлежит творчески и человечески; и неприкаянность его в Австро-Венгерской империи, где он вдвойне обречён как представитель меньшинства и как представитель большинства, к сожалению, тоже.
Понимаете, ведь в огне Второй мировой сгорело не только европейское еврейство, которое пережило Холокост, и чудом уцелели отдельные его представители. Еврейство как тело, еврейство как составная часть Европы больше не существовало. Феномен местечок был уничтожен. Культура идишистская была уничтожена. Культура многолетних преданий была уничтожена. Ну, что там говорить? Но и Европа сгорела в этом огне. Наивно очень думать, что Европа спокойно это пережила. Уж Господь, если жжёт, то жжёт.
И надо сказать, что Вторая мировая война была концом личности в европейском понимании, была концом истории в европейском понимании. То, что началось после, с отсрочкой где-то, потому что удар не сразу доходит, и не сразу доходит ощущение конца мира, но то, в чём мы живём — это мир после апокалипсиса. И пора это признать. Это совершенно другой мир. Человечество недоистреблено, но оно получило такой удар, после которого оно никогда не будет прежним.
Кафка это предчувствовал, потому что весь модерн держится на этом ощущении достигнутого предела. Дальше — либо скачок в сверхчеловечество, в следующее состояние, либо, простите, скачок в недочеловечество, который и произошёл. Потому что, скажем так, вся европейская послевоенная история занимается всего лишь выработкой механизмов по предотвращению нового качественного рывка, по предотвращению эволюции человека. Потому что если человек заглядывает вот в эти бездны, в те бездны, которые предчувствовал и предвидел Ницше, если человек становится сверхчеловеком, то главным таким аутоиммунным средством торможения становится война. Война была реакцией на модерн. Именно поэтому правильно пишет Максим Кантор, что выжил русский модерн парадоксальным образом, а европейский модерн погиб, он был абортирован, прерван. И Кафка очень остро предчувствует этот кризисный момент. Кафка, конечно, человек нового типа, писатель гениально одарённый, но разрыв с традицией он переживает как личную катастрофу.
Лично мне кажется, что самый исповедальный и самый яркий текст Кафки — это «Письмо к отцу». Оно написано не просто так. Это письмо не только к отцу, рассчитанное, конечно, только на частное чтение. Это в каком-то смысле письмо к XIX столетию, письмо к старой Европе, к старому еврейству, письмо к старому миру, который навязчиво пытается сделать из него коммивояжёра, чиновника, верного еврея, семьянина, человека традиции, а он не может к ней принадлежать. Весь ужас Кафки — это ужас от соседства с традицией.
Скажу больше — из всех его рассказов мне больше всего нравятся три: «Голодарь», «Сельский врач» и «В исправительной колонии». «Голодарь» — это как раз исповедь модерниста, который умирает, потому что не может найти еды, которая была бы ему по вкусу, нет такой. Помните? Ведь голодарь — он голодает, доведя искусство голодания до невероятных высот, потому что он ничего не может есть. Ему вся эта еда кажется невкусной, поэтому он доходит до состояния практически полного исчезновения. Это блестящая мысль.
Что касается «В исправительной колонии». Такой страшноватый сон — он не о тоталитарном социуме как таковом. И конечно, здесь нет пророчества о тоталитаризме. Это вечная кафкианская притча о законе. И там высказана та же мысль, которая была почему-то особенно очевидна в Германии и Австро-Венгрии, и она довольно часто там в литературе повторяется. Мне лучшей новеллой Генриха Манна, который новеллистом был, по-моему, посильнее Томаса (Томас лучше писал романы, а Генрих — рассказы), лучшей новеллой Генриха Манна представляется мне «Отречение» — рассказ о страшной связи садизма и мазохизма, о подчинении диктаторства. То, что диктатор, искренний диктатор, истовый, верящий диктатор сам становится жертвой своей диктатуры, Кафкой замечательно предсказано в этом рассказе «В исправительной колонии».
А особенно страшно вот то, что в логике кошмара у Кафки всегда есть,— это страшная связь наказывающего и наказуемого, такой стокгольмский синдром. Если помните, часовой и заключённый там начинают почти сразу обниматься и потом играть весело и по-детски, толкая друг друга. Вот эта страшная амбивалентность, страшная готовность заменить одну роль на другую — это очень там внятно чувствуется. И это предсказание, которое во многом определило тоже катастрофу фашизма.
Ну и почему я люблю «Сельского врача»? Потому что там впервые очень точно угадано… Хотя это сон, но сон, подлежащий интерпретации. Там впервые очень точно угадана роль искусства. Не может этого юношу сельский врач исцелить. Он, влекомый своими страшными конями (я думаю, что это метафора дара), влекомый страшной природой своего дара, он может лишь стеснить больного в его постели, но вылечить, исцелить вот эту дикую рану с червями на его боку он не может. Этот мир обречён. Это догадка Кафки, которая много раз потом всплыла в мировой литературе.
Я, кстати, думаю, что одновременно, не сговариваясь… Конечно, Булгаков его не читал, но «Записки сельского врача» во многом дышат тем же чувством… «Записки юного врача»! «Сельского» — это, уж простите, оговорка, но не случайная. Он же сельский там. «Записки юного врача» как раз, по-моему, об этом. А вот Шукшин наверняка читал Кафку, и поэтому «Шире шаг, маэстро!» — я думаю, это такой интересный привет «Сельскому врачу». Потому что Шукшин гораздо более начитанный писатель, чем принято думать, чем принято диктовать разнообразными почвенниками, вписывающим его в свои ряды. Он был всё-таки выпускник ВГИКа, горожанин по образу жизни и очень начитанный человек.
Теперь что мне хочется сказать о «Замке»? Конечно, пророчество Кафки о природе тоталитаризма с лёгкой руки Ахматовой («Всё это придумывал Кафка и Чарли изобразил») — это, конечно, отчасти верно. Но дело в том, что тоталитаризм, по Кафке, гораздо глубже, я бы сказал — иудаичнее. Потому что Кафка рассматривает человека в иудейской традиции. Для него главное — закон. Страж закона — главная фигура. И не зря, кстати говоря, именно с притчи о законе начал Орсон Уэллс свою блистательную, лучшую поныне экранизацию «Процесса». Ну, там конкуренция небольшая.
Дело в том, что «Процесс» — это ведь не роман о тоталитарном социуме, это роман об участи человека в мире. Все приговорены, никто не знает за что. И идея послушания, и идея бунта, которую Йозеф К. пытается как-то реализовать,— они одинаково бесперспективны. Идея смерти — это идея позора. Помните, когда он умирает, он думает о том, что этому позору суждено будет пережить его. Но ведь смерть — это самый большой позор, это абсолютное унижение.
Чуть-чуть не дописан «Замок». Там оставались две-три главы, в которых, по свидетельству Брода, инженер… землемер К. получал разрешение жить в Замке, но уже умирая. Это тоже метафора вовсе не тоталитарного государства с его диким бюрократизмом. Нет, это метафора жизни, потому что разрешение жить, осознание своего raison d'être, причины быть, осознание смысла своей жизни мы получаем, как правило, перед концом, когда оно нам уже не нужно. И разрешение быть — оно такое явление посмертное, как посмертная слава, настигшая Кафку.
Мне кажется, кстати, кажется, что Кафка написал лучшую эротическую сцену в европейской литературе — это сцена соития в Замке, когда вот этот инженер блуждает и задыхается в чужой плоти. Этот ужас чужого, ужас наслаждения, которое граничит с пыткой, вот эта страшная теснота. Кстати говоря, другая лучшая, любимая моя эротическая сцена — это где Хома Брут погоняет Панночку. Вот та же история со страшным и сладким томлением, подступающим к сердцу. Вот это, по-моему, то же чувство, которое очень остро почувствовал Кафка.
Конечно, Кафку часто называют «гением страшного», «человеком, работающим в эстетике страшного». В чём тут дело? Мне кажется, что он в известном смысле, конечно, ученик Эдгара По, отчасти — Гоголя. Во всяком случае самый страшный кошмар Эдгара По и Гоголя — погребение заживо, клаустрофобия — этот мотив очень остро у Кафки присутствует. Отсюда его тяга к свободе, тяга вырваться как-то из любых пределов. Клаустрофобия была ему свойственна. Отсюда же, мне кажется, его страх перед семьёй, потому что с собственной семьёй ему было тяжело, а новой семьи он не заводил. Мне кажется, что сексуальный его опыт был весьма велик, и он переживал секс, любовь всегда как одну из форм зависимости, о чём наглядно свидетельствуют «Письма к Милене» — чего там говорить, довольно страшный документ. И в «Дневнике» это есть. Но к этому всегда примешивалось вот именно острейшее чувство страха, которое, мне кажется, не зря присутствует во всей великой литературе.
Много раз тоже я уже говорил о том, что страшное нельзя подделать. Можно легко, с помощью нехитрых приёмов насмешить читателя, можно его прослезить, растрогать, давя коленом на слёзные железы, можно его даже в некотором смысле, ну, мотивировать, одухотворить. Но вот напугать его — это нужен гений, нужен талант человека, который очень остро чувствует ритм. Страх — это же вопрос ритма. И вот поэтому гений чаще всего выражает себя в страшном — как поздний Тургенев, как Достоевский во «Снах», как Толстой в «Арзамасском ужасе», в «Записках сумасшедшего». «Записки сумасшедшего» Толстого, на мой взгляд, далеко оставляют позади гоголевский текст. Ну, не будем выставлять отметок писателям.
Но что принципиально у Кафки? Его интерес к страшному — на самом деле это глубокое чувство иррациональности мира, потому что закон всё время пытается подчинить мир себе. Но закон бессилен, диктатура бессильна, мир страшен. И что бы человек ни пытался с ним делать, как бы он не давил… В этом смысле «В исправительной колонии» очень чётко показывает обречённость тоталитаризма. Не зря главный герой-повествователь там чужестранец — человек, для которого странны и чужды эти обычаи. Я бы сказал, что для Кафки страшное — это в каком-то смысле вызов тоталитаризму, вызов закону. Потому что ужас мира закону не подчиняется, а как бы закон и иррациональное — это два отдельных ужаса, два разных ужаса.
Конечно, Кафка работает в логике кошмара. Вот как Лукьянова совершенно правильно писала, что первый признак кошмара — болезненное внимание к деталям и нечёткость главного. Все мелочи прописаны, а главное ускользает, и оно размыто, оно сомнительно. Это классическая примета кошмара.
Но мне кажется ещё важным, что страшное в мире Кафки в каком-то смысле даже освобождает от повседневности, оно выглядит убежищем. Да, Грегор Замза превратился в отвратительное насекомое. И это в каком-то смысле метафора того самого сверхчеловечества, которое случилось с Кафкой. Для своих родителей, современников, коллег, даже для собратьев по писательскому ремеслу он был отвратительным насекомым. Но всё-таки лучше быть жуком-навозником или тараканом, или кем хотите, чем каждый день ездить на службу, чем быть коммивояжёром. Помните, он там, проснувшись, говорит: «Что же за беспокойная у меня работа?» Он и превратился-то в этого жука оттого, что на работу ходить больше не хотел. И страшное в кафкианском мире в каком-то смысле спасение от обыденности. А самое страшное — это иррациональность окружающего.
Кстати, «Замок», как мне представляется, с его непостижимыми законами — это в некотором смысле мир, который так построен Богом. И Кламм — это такой посредник на пути к Богу, если угодно, священник. Иррациональность мира гораздо лучше… иррациональность графа, владельца Замка, гораздо лучше, чем слепая рабская покорность крестьян или помощников землемера, или женщин. Замок — это, если угодно, наш ответ на земную безысходность. В этом Кафка, конечно, гений внутренней свободы.