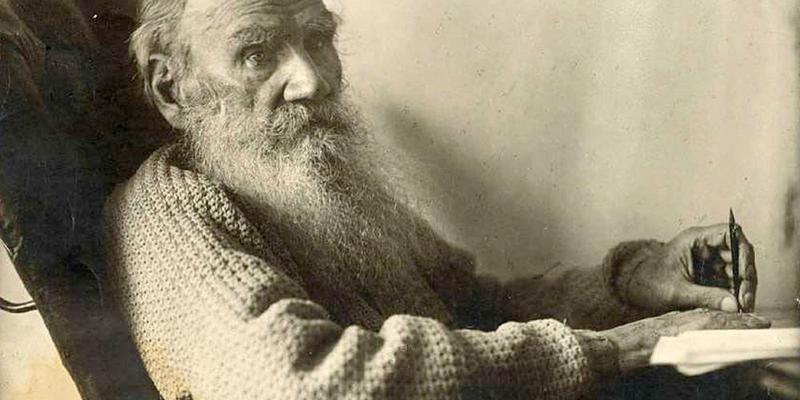Для Достоевского смерть была, скорее, фикцией. «Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей?» — дневниковая запись о первой жене. Мне кажется, он все-таки не допускал исчезновения полного. Толстой всю жизнь его боялся и чувствовал в этой связи острейший когнитивный диссонанс. А Достоевский, мне кажется, настолько остро чувствовал бессмертие.
Вот в моем любимом эпизоде из «Карамазовых», в отпевании старца Зосимы и его явление Алеше. Вот эта радостная глава про Кану Галилейскую, «и несут ещё и ещё вина»,— это как раз выдаёт в нём такую светлую и радостную веру. Её было в нём мало и в его текстах она редко проявлялась, но иногда, прорываясь, она давала поразительный эффект. Я думаю, что для Достоевского вера была почти физиологична, очень естественна, в отличие от Толстого, который пытался расчистить эту веру, но, к сожалению, не находил.