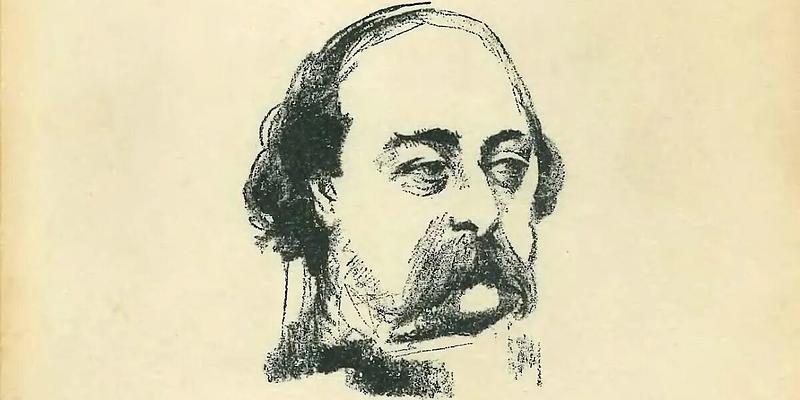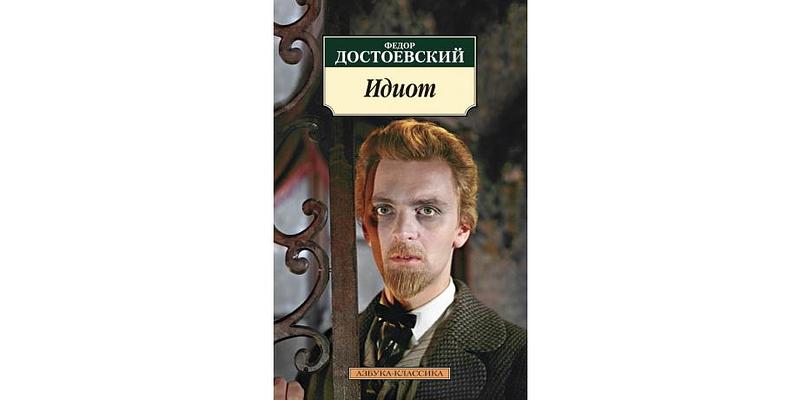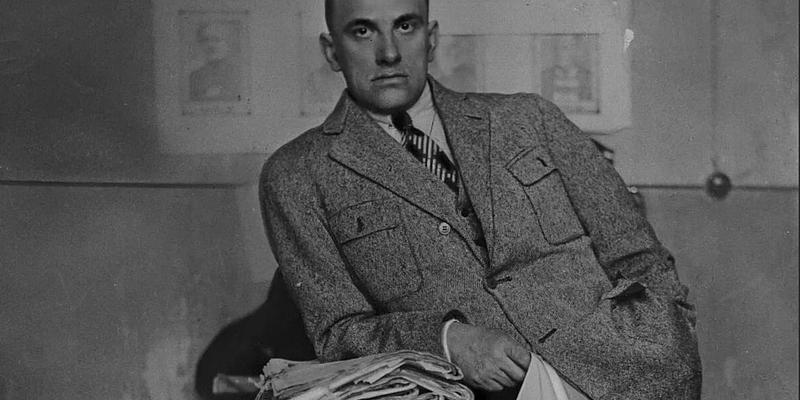Тема действительно сложная и она тоже несколько этапов предполагает. Я не буду предполагать какие-то банальности о том, как сказал Добролюбов и сказал совершенно точно: «Самый сильный протест вырывается из самой слабой груди». Женщина в России традиционно сильнее мужчины. Это тургеневская тема, это тема Чернышевского. Она у Достоевского звучит довольно отчетливо. Прежде всего потому, что женщина не встроена в социальную иерархию, и ей, так сказать, не нужно «для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи». Мужчина принужден мимикрировать, он должен постоянно менять окраску, хамелеонствовать, как в чеховском рассказе, карьеру делать, как в «Толстом и тонком», зависеть от внешних обстоятельств. У женщины, ввиду её полной несвободы, в том числе несвободы получить профессорское звание, право голосовать или право получить официальную работу, должность государственную, у нее в связи с этим меньше и ограничений. Как, собственно, в «Джанго освобожденном» афроамериканцы и показаны самыми свободными людьми, потому что у них уже нет никаких прав, и им почти нечего терять. Соответственно, и женщина в русской литературе была сильнее именно потому, что ей ничего другого не оставалось. У нее не было необходимости социально мимикрировать, не было необходимости делать карьеру, и такой возможности-то у нее не было. У нее не было ничего.
И вот в результате появляются такие сильные женщины, превосходящие мужчин, как Катерина, как Елена в «Накануне», как Вера Павловна, которая отваживается делать свой выбор, и, больше того, отваживается жить такой нестандартной промискуитетной жизнью, отказываясь выбирать из двух. Соответственно, появляется Настасья Филипповна — ещё один образ России, довольно жуткий. И, конечно, Ася. Потому что вообще тургеневская женщина — Елена, Ася, Наталья в «Рудине» — сильнее мужчины именно потому, что она-то к моральному выбору готова. Правда, с точки зрения Тургенева, сила — это не всегда хорошо. Говорят, что тургеневская женщина сильна. Так ведь тургеневская женщина разная. Татьяна в «Дыме» тоже сильна, Полозова в «Вешних водах» тоже сильна. Но та ли это сила, которую мы любим, боготворим, которой ждал Добролюбов от женщин? Нет, это сила полоза, змеи, Полозова — это очень точная неслучайная фамилия. Да даже возьмите Елену. Это совершенно не та сила, которая означает ум или сострадание, нет. Это сила решительного действия, и человек становится гораздо более бледным, блеклым персонажем. Вот Шубин или Берсенев в «Накануне» более интересные персонажи, нежели Инсаров, о котором вообще ничего нельзя сказать. Мне кажется, что как раз Тургенев отлично понимал, что для того чтобы освободиться, человек должен утопить свое Муму. Поэтому его сильные женщины, как правило,— это женщины малоприятные. Не особенно симпатичные, что там говорить? Можно ли назвать Елену человеком сколько-нибудь гуманным? Она вдохновляется идеалами, безусловно, гуманистическими, а как она будет вести себя в жизни — не очень понятно. И не очень понятно, сможет ли она этим гуманным идеалам следовать.
Тургенев всегда влюблялся в сильных женщин, таких, как Юлия Вревская. Тургенев всегда интересовался революционерами, Тургенев всегда (как в «Пороге», например) описывал женщин, готовых на все, в том числе не только на смерть, но и на убийство. Ей вслед раздаются два голоса: «— Дура!— проскрежетал кто-то сзади.— Святая,— принеслось откуда-то в ответ». Можно подумать, что «дура» — это скрежещут из ада, а «святая» — возвещают из рая, но у меня нет в этом уверенности. Понимаете, это голоса не сверху или снизу, а, думается, мне, слева и справа. Это голоса из какой-то другой плоскости. И я, честно говоря, не знаю: про женщин из «Народной воли» можно сказать, что они святые или нет? Да, наверное, это такая русская святость революционная, но образы этих революционерок с вечно сияющими глазами вызывают у меня сильные сомнения в их гуманности, а люди, активно педалирующие собственную святость, как правило, оказываются на стороне убийц. Это вечный закон, и пока ещё российская реальность ничем его не опровергла.
Мне кажется, что дальнейшая эволюция типа русской женщины была более интересна, чем вот это появление героических, непримиримых святых революционерок. Именно говорю я о следующем этапе — появлении сильной женщины в русской литературе и в русском кинематографе 70-х годов. Наверное, прав Максим Суханов, когда говорил о том, что героини русского кино и героини современной русской литературы — это как раз носительницы мягкой силы. Это отражено в вечной пословице: «Муж — голова, а женщина — шея». И действительно, руководство обществом (в 70-е, в этом случае, годы) берут на себя женщины. Происходит такой странный всплеск стихийного феминизма, женщина становится главной героиней эпохи. Это и «Москва слезам не верит», и «Старые стены», где Гурченко играет директора фабрики. Это и панфиловские «Прошу слова» и «Тема». Это и неосуществленный, но гениальный сценарий Шпаликова «Девочка Надя, чего тебе надо?» И это, конечно, райзмановские «Время желаний» и «Странная женщина» — замечательные фильмы, и «Сладкая женщина» тоже замечательный фильм. И «Блондинка за углом», конечно, Бортко. Женщина становится главным героем. И этому две причины. Во-первых, мельчает мужчина, а в России он мельчает всегда потому, что вот как раз застой не предполагает активных действий. Вот вы не хотели жить в эпоху перемен — хорошо, поживите в эпоху стабильности, в эпоху болота, когда на ваших глазах происходит собственное ваше вырождение. Когда ваш мужчина не в силах отвечать даже за себя, не то что там за кого-то.
Да, действительно, если… Об этом же «Белорусский вокзал». В какое положение поставлен ветеран-победитель? Родина его предала, он ничего не может, у него нет прав никаких, он полунищий. Даже если он начальник, он ещё в большей степени раб. Вот вам, кстати, к вопросу о диалектике раба и господина, слуги и хозяина. Это в российском кино очень наглядно. В том-то весь и ужас этой среды застойной, что люди вырождаются стремительно, мужчины быстрее женщин, а женщины становятся оплотом силы. Силы иногда подловатой, как в том же «Времени желаний». Алентова как раз вот играла эту женщину — карьеристку, в чем-то умеющую отступить и сдаться, в чем-то совершенно непреклонную. Кстати говоря, об этом и довольно жесткий фильм Ильи Авербаха «Чужие письма», где мужчины вообще играют роль пренебрежимо малую. Они либо такие никак не могущие принять решения романтические любовники-художники, либо банальные такие брутальные выпивохи, а главный конфликт — между двумя женщинами: интеллигенткой, в которой есть сила и стержень, вот эта пощечина… Но и есть, конечно, героиня Светланы Смирновой — Зина Бегункова, которая тоже носительница женских стратегий, иногда подловатых, иногда гибких, мягких, а иногда совершенно стальных.
Кстати говоря, и сценарий этого фильма написала женщина — Наталья Рязанцева, одна из самых мужских фигур, один из самых мужских умов по абсолютной трезвости и беспощадности в русской литературе. Я понимаю, что мне сейчас будут инкриминировать употребление слова «мужской» в позитивном контексте, но я под «мужским» понимаю всего лишь не женский, то есть такой, я бы сказал, традиционно не мягкий, не податливый, чрезвычайно трезвый. Под женской прозой всегда ведь подразумевалась проза о чувствах, а собственно проза Рязанцевой — это проза интеллектуальная. Почему женщина выходит на первый план в русском обществе 70-х годов? На этот вопрос можно поискать ответ, скажем, у довольно социально чуткого Сорокина: в «Тридцатой любви Марины», где показано полное вырождение диссидентской среды, где не вырождаются только начальнички. Но советские начальнички, вот эти партийные депутаты, в чьих объятиях кончают диссидентки в романе, все-таки непривлекательны. Они по-своему грубоваты, примитивны, неинтересны. В них есть какая-то надежность, как есть она и в советском герое позднесоветского кино. Но, понимаете, это все-таки уже Баталов. Это постаревший герой фильма «Дело Румянцева».
И именно то, что носители таких традиционно мужских добродетелей в этом кинематографе — герои Шукшина, герои Солоницына, герои Высоцкого,— то, что они сами обречены на раннюю смерть, и их герои тоже… Смотрите, Шукшин умер в 46 лет, Высоцкий в 43, Солоницын в 48 [47], по-моему. Владислав Дворжецкий — 36 лет. Я уж не говорю о жертвах каких-то несчастных случаев, потому что в советской литературе мужчина вообще живет недолго, так получалось. Достаточно вспомнить Урбанского, достаточно вспомнить несколько писательских, очень катастрофических судеб (Вампилов). Это то время, когда мужчина либо мельчает, либо не выживает.
И вот очень интересно, что в современной русской литературе какие-то тоже женские персонажи и женские стратегии выходят на первый план. Я не могу пока назвать каких-то конкретных имен, но я могу сказать, что самой перспективный писатель сегодня, а в прошлом — самый перспективный критик — это Валерия Пустовая, которая писала сначала замечательную критику, а потом стала писать замечательную документальную прозу на своем опыте. И вот её повесть о матери и собственном материнстве, параллельно развивающихся,— да, конечно, я всегда против того, чтобы писатель эксплуатировал свою биографию, но самоанализ — другое дело. Если он занят самоанализом на собственном примере, то это великий выбор. Мне кажется, что литература Пустовой по честности, по бескомромиссности, по изобразительной пластической силе,— значительно обгоняет всех тех, о ком она писала, как критик. Конечно, Ксения Букша с её замечательным даром абсурда, гротеска, с её замечательной эрудицией,— это, мне кажется, тоже делает честь и литературе, и ей. Это и женская фантастика, которая сегодня весьма сильно развита и у которой есть замечательные перспективы именно потому, что женщины меньше внимания уделяют внимания внешней экспансии, а больше внимания той самой внутренней эволюции.
Мне кажется, что сегодня время женщин не в том феминистском, довольно пошлом смысле, и не в том смысле, что они борются и утверждают какие-то права, а в смысле самом прямом — в том смысле, в каком Солженицын упрекал евреев о слишком активном вмешательстве в русскую жизнь. Да евреи в результате и вынуждены делать то, что должны были сделать русские, но почему-то от этого уклонились. Здесь, мне кажется, та же ситуация: здесь мужчины могли бы обеспечить рывок и в прозе, и в политике, и в экономике, да в чем угодно. Но они по разным причинам уклоняются, и в результате женщинам самим приходится браться и за перо, и за штурвал, и за режиссуру, кстати говоря.
Вот очень интересно, что в русской режиссуре сегодня — тоже женское время, и это показал «Кинотавр», судя по тому, что я о нем читал. Правда, мне хочется ещё посмотреть фильм Валерия Тодоровского «Одесса»,— говорят, очень мужское кино, а победил на «Кинотавре» такой мужской брутальный «Бык», но, во всяком случае, новые фильмы Садиловой и особенно новый фильм Сайфуллаевой, мне кажется, говорят о том, что у женщин как-то больше отваги в исследовании новизны. Мужчина больше боится сойти с проторенной дороги, мужчина больше боится неуспеха, больше боится рисковать. Не знаю почему, мне трудно сказать, с чем это связано, потому что мне-то как раз представляется, что мужская миссия сегодня требует слишком большой отваги, слишком большого прыжка; то, что Владимир Путин называет «толчком» — все-таки проговорки великолепны, и то, что в русскую политическую жизнь входит слово «толчок», неслучайно. Когда ты не сам делаешь рывок, а жизнь тебя на что-то такое толкает. Мне кажется, то слишком масштабен сегодня тот рывок, который требуется от мужчины. Может быть, надежда на то, что женщины как-то с их безоглядностью и с их привычкой к риску, как-то сделают это за нас. Тем более, что даже в литературе сегодня отважнее экспериментируют именно женщины. Я говорю, конечно, в первую очередь о Петрушевской. В кинематографе отважно экспериментировала Муратова.
Выбирая между двумя страхами — плохо самовыразиться и не самовыразиться вовсе, женщина выбирает первый. Пусть я выражусь плохо, но я выскажусь. Для нее держать в себе страшнее. Поэтому женская литература и женский кинематограф сегодня, может быть, договорят за нас то, о чем боимся договорить мы.