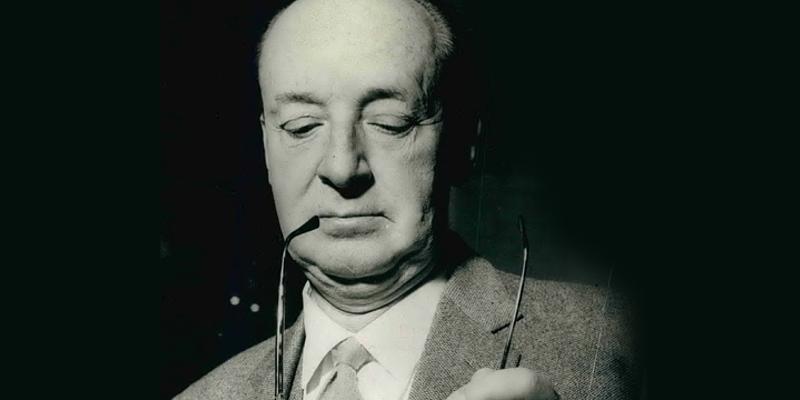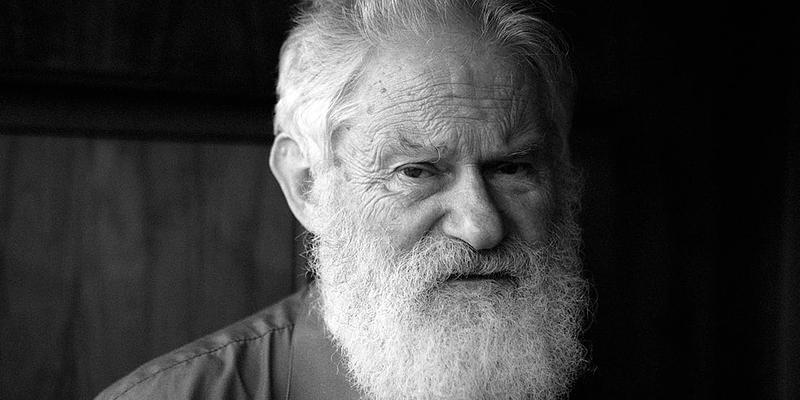«Фауст» велик как поэма потому, что смысл его неисчерпаем, и, как говорил Пушкин, «это высшая смелость изобретения — смелость Гете в "Фаусте"». Это драма нового типа, небывалая философская мистерия, небывалая по масштабу (в том числе по масштабу проблем). Она отразила главную драму просвещения — реабилитацию Фауста. И чем дольше я занимаюсь фаустианским мифом, чем дольше я писал свой собственный фаустианский миф («Истребитель»), тем я больше понимал: да, действительно, видимо, бог прислал Мефистофеля, но принимать помощь Мефистофеля все-таки не следует. Фауст попадает в рай потому, что он бескорыстно стремится к знанию и к действию, то есть осуществляет программу экспансии человека; программу, чрезвычайно актуальную для XVIII века. Но эта программа ничем хорошим не закончилась, и, по всей видимости, единственный ответ для Фауста на предложение Мефистофеля должен был заключаться в отказе. Так я понимаю с годами. Или как я пытался когда-то сформулировать: «Никогда ничего не берите у тех, кто сильнее вас. Придут и сами все дадут, но и тогда не берите». Вот так надо было продолжить эту мысль.
Потому что понятно, что в рамках фаустианского мифа бог отказывается спасти все человечество, а хочет спасти мастера; не спасти, а предоставить ему «шарашку», условно говоря. Но, видимо, мастеру следует вовремя отказаться от этого, потому что Фауст думает, что ему лемуры роют канал, а лемуры роют ему могилу. И вот это понимание Гете, я боюсь, и есть самое пророческое, самое главное, что есть в «Фаусте»: Фауст умирает, сказав: «Остановись, мгновение!», когда ему кажется, что покорный ему лемуры строят великое какое-то гидросооружение.
А ведь на самом деле лемуры, после того как уничтожен домик Филемона и Бавкиды, рушат мир и роют могилу для Фауста, а Фауст этого не знает. То, что просвещение не панацея; то, что просвещение и наука на самом деле роют могилу человеку,— это великая догадка Гете. Потому что все то, что исходит от Мефистофеля, при всей соблазнительности и даже при определенной вдохновенности его планов, к сожалению, оборачивается бесчеловечностью. Поэтому мы сегодня присутствуем не при старте, а при финише фаустианского мифа, при массовом разочаровании в нем. Человек, который жаждет познания, который хочет встать вровень с богом, это такая же древняя конструкция, как и Вавилонская башня, но Вавилонскую башню Господь истребил, и Александр Македонский сделал театр, цирк по сути дела. Это очень характерно для сегодняшней истории России: из обломков Вавилонской башни — страшной, омерзительной, но все-таки башни, строится цирк, что мы и наблюдаем. Это вполне фаустианский миф.