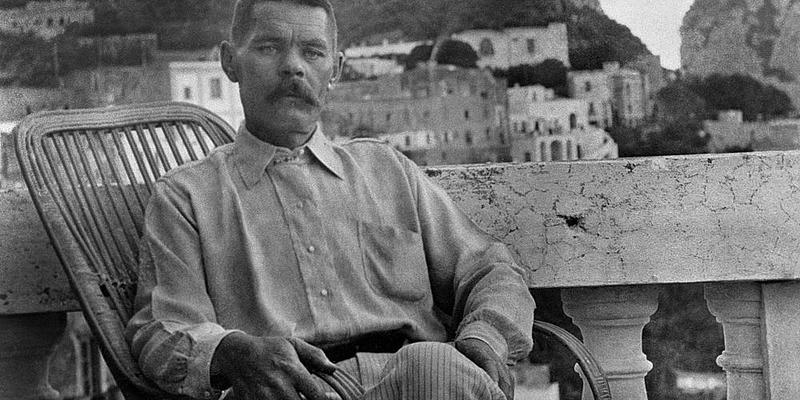К Брюсову прилепилось цветаевское определение «герой труда», но обычно забывают, от какого внутреннего хаоса он в этот дисциплинарный санаторий, по-лимоновски говоря, в этот труд бежал. Мы привыкли, конечно, считать великим тружеником, хотя процентов на 60 его «великий труд» был исключительно средством самодисциплины и значение с годами совершенно утратил. Скажем, большая часть его прозы, кроме «Алтаря победы» и «Огненного ангела», никакой критики не выдерживает. Особенно то, что он писал на современном материале: чудовищный рассказ «Ниночка» приходит мне на ум, да вообще его я беллетристика плоха.
Я всегда говорил, что уровень поэта определяется его прозой, это надежный критерий. Вот «Огненный ангел» — великолепное произведение, но в целом его проза очень неровна. Все «Напевы», где он задался целью создать образцы всех поэтических форм,— это забавный эксперимент. Я помню, как нам Богомолов читал, и мы все валялись по полу буквально.
Кенгуру бежали быстро,
Я ещё быстрей.
Кенгуру был очень жирен,
А я его съел.
Это такая попытка сочинить австралийскую туземную песню. Использовать все поэтические формы от канцоны до дикого аборигенского напева. Это интересный проект, но никакой ценности, кроме экспериментальной, он не имеет. Другое дело, что у Брюсова была своя лирическая тема. Каковая тема, наверное, не принадлежит к числу принятых, о ней проговариваться не очень прилично, но она есть. И она не может быть замаскирована никакими внешними обстоятельствами, никаким трудовым героизмом.
Это тема садомазохизма, если угодно, поэтика подчинения. Он действительно был диктатором: в общении, в руководстве издательством, в руководстве русским символизмом и московскими символистами в частности. Он был рожден быть вождем, но это не потому, что у него были какие-то харизматические качества. Потому что он был одержим властью, проблемой власти и подчинения, и в этом смысле он транслирует главную проблему русской государственности.
Я не могу полностью принять концепцию, которую высказывает Ходасевич, концепцию его личности — что Брюсов всегда был бы с властью, и с властью любой, и это делало его черносотенцем в 1910-е годы и союзником большевиков в 1917-м. Это так выглядит со стороны, но ведь Брюсов не искал льгот и преимуществ. Он занимал эту позицию — да, безусловно, но потому что он поэтизировал и абсолютизировал власть. Для него власть — это поэтическая категория, а не источник выгоды. Он — человек железной дисциплины, но в эту дисциплину он загнал хаос своей души, потому что ему присуща не только жажда повелевать, не только жажда управлять и директивно решать судьбы, а потому что он чувствует в себе и бездны, и желания подчиняться.
Он совершенно правильно писал, и я как-то очень солидарен с этой мыслью: «Моя юность была юностью гения, потому что ничто, кроме гениальности, не может искупить мои поступки». Это значит, что он свои поступки собственной безнравственностью оценивал весьма трезво. Тут даже дело не в безнравственности его довольно невинного разврата. Дневниковые записи говорят, что он считал развратом весьма скромные по нынешним временам, абсолютно вегетарианские развлечения. Но он был человек, действительно болезненно жаждущий своего и чужого унижения. Взаимосвязь вот этих двух жажд, жажды унижать и жажды подчиняться, прослежена на более серьезном уровне, скажем, у Генриха Манна в «Учителе Гнусе». Но это, к сожалению, и в быту довольно часто встречается, и в литературе тоже.
Надо сказать, что подробное исследование садизма и мазохизма произошло в XVIII-XIX вв., но это не потому, что раньше их не было. Потому что человечество дозрело наконец свободно об этом говорить. Де Сада я считаю писателем достаточно ничтожным, хотя, скажем, новосибирский круг его исследователей со мной в этом не согласен. Мне кажется, что у писателя может быть только одна одержимость — литературой. Если он все-таки до такой степени одержим садизмом, как де Сад, у него литература выходит блеклой. И мне кажется, писатель он был никакой. Ну не Эдгар По, прямо скажем. Но то, что он зафиксировал вот эту жажду мучить и мучиться (потому что мазохизм уже есть в садизме) — она, конечно, заслуживает отражения и описания. У Брюсова это было как бы вынуто из подсознания и как бы поднято на более высокий уровень. Да, поэтику власти он понимал, как мало кто.
Но надо сказать, что понимал он — с другой стороны — и собственную личную обреченность. Вот «Каменщик» — ключевое его стихотворение, на мой взгляд, которое обычно недопонимается. Давайте его вспомним:
— Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
Что ты там строишь, кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом:
Строим мы, строим тюрьму.
— Каменщик, каменщик с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?
— Верно, не ты, и не твой брат, богатый.
Незачем вам воровать.
— Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто [нес кирпичи!
Эй, берегись! под лесами не балуй…
Знаем все сами, молчи!
Это стихотворение — оно к кому обращено, вообще говоря? И о каком каменщике оно говорит? Тут нельзя не увидеть масонской символики, и Брюсов ведь сам жрец некоего храма. Он чувствует себя его строителем. И строительство тюрьмы и храма здесь уравнено, потому что и то, и другое — пространства иерархии, это царство строго подчинения. Он обращается, конечно, к непосвященным. «Отойдите, профаны»,— вот это здесь, «знаем все сами, молчи», «под лесами не балуй», не путайся под ногами. Безусловно, Брюсов чувствует себя созидателем храма культуры. Но понимает он и то, что этот храм в известном смысле является тюрьмой, что его идея власти, его культ власти — это, всего лишь, отражение эстетических иерархий, которые неизбежны для художника.
Знаете, вечная проблема: почему художник тяготеет к власти? Ведь не потому это происходит, что он от этой власти надеется получить какие-то льготы, хотя пошлые люди таки надеются, это безусловно так. Но люди серьезные, художники, для которых их служение является разновидностью жречества:
Я угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле,—
Пишет Гумилев, прямой наследник и ученик Брюсова. И надо помнить об этом ученичестве. Брюсов — это как бы предварительный, черновой вариант Гумилева. Гениальный поэт всегда сначала всегда появляется в наброске, как Светлов предшествовал Окуджаве, как Саша Черный предшествовал Маяковскому. В этом смысле Брюсов — он уже сформулировал все гумилевские идеи. Но Гумилев их довел до эстетического совершенства и, более того, заплатил за них жизнью. То есть как бы довел Брюсова до квинтэссенции, до идеального выражения. Но идея строительства храма, безусловно, у них общая.
Каменщик — это вовсе не тот, кто строит тюрьму. Каменщик — это масон, строитель храма культуры, это внутренняя линия. «Каменщик, каменщик, с верной лопатой» — тут же упоминаются все масонские атрибуты: фартук, верная лопата. Это, безусловно, автопортрет. И то, что «знаем все сами, молчи» — это четкое понимание своей судьбы. Брюсов понимает, что рано или поздно придет тот, кто разрушит его храм. Больше того, в этом тоже есть определенный садомазохизм. Этот призыв к гибели на свою голову. «Слышу ваш топот чугунный по ещё не открытым Памирам» — это ведь обращение к грядущим гуннам, которое заканчивается прямым совершенно прощанием:
Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.
Это совершенно неизбежная вещь. Если в тебе есть воля жреца, то ты будешь приветствовать и разрушителей этого храма, потому что это — изнанка строительства. Разрушение — не что иное, как изнанка строительства.
Кстати говоря, Блок был совершенно прав, когда писал Маяковскому: «Нужно, чтобы появилось нечто новое, равно не похожее ни на строительство, ни на разрушение». Он понимает, что разрушение — это всего лишь изнанка брюсовской иерархии. Это вариант ещё одной несвободы. Нужно органическое развитие, органическое растение, а не каменная кладка. Но надо вам сказать, что каменная кладка брюсовских стихов производит все-таки титаническое впечатление. Это совершенство формы, великолепие пластики, и потом, его виртуозное умение писать что угодно от городского романса до прокламации — это выдает, конечно, культ мастерства, зрелого, умного мастерства, и именно это делает Брюсова первым поэтом.
Понимаете, не последние люди восхищались поэзией Брюсова. Блок и то считал слишком лестным для себя предложение сотрудничать с ним в одном журнале. Для Блока «Tertia Vigilia», «Третья стража» брюсовская, была одним из величайших откровений новой поэзии. И Сологуб, и Цветаева тоже едины были в определении меры его таланта. Вот Ахматовой принадлежит такая, довольно снисходительная оценка: «Он знал секреты, но он не знал тайны». Это сказано очень красиво, я бы даже сказал, что слишком красиво. Но тайну-то он знал, и эта тайна есть в его стихах. И это та же тайна, что и во многих стихах Ахматовой: тайна страшной границы, которую переходят в любви, тайна расчеловечивания, дегуманизации, которая есть в Эросе. Об этом и Розанов… Вообще, русская литература довольно активно осваивала эту тему: человек в любви становится или зверем, или богом. Да, есть такая возможность.
Для меня брюсовский садомазохизм в его эротических, а иногда и в откровенно порнографических стихах (есть у него и такие, предельно откровенные) — это изнанка той же проблемы: его отношение к власти и к разрушению, к масонству и к революции. Для него, наверное, любовь — это действительно череда пыток. «Где же мы: на страстном ложе иль на смертном колесе?»
— это те стихи, которые иронически цитирует Ходасевич. Он говорит: «Да, на смертном колесе или на страстном ложе неважно, кто. Безлик партнер». Это не совсем так, все-таки. И говорить о безликости любимой у Брюсова было бы неверно.
Мне кажется, что в этом смысле самое отчаянное, самое откровенное и глубокое,— это его попытка продолжить «Египетские ночи», за которые так сильно ему прилетело от Маяковского. Но клянусь, вот я понимаю, почему. Потому что он в «Египетских ночах» по-брюсовски увидел историю своей любви, свою ослепительную царицу Сиону еврееву. Ведь в Маяковском тоже была эта жажда подчиняться по отношению к Лиле: он доходил до совершенно рабских ноток. И вот Брюсов это описал, он зафиксировал это положение, эту коллизию.
Надо вам сказать, что когда он прикоснулся к Пушкину, к «Египетским ночам»… А его статья о «Медном всаднике», наверное, самая глубокая, самое точное, что написано о мицкевичских связях Пушкина, о генезисе его, о связях, и так далее. Для меня «Египетские ночи» — это не просто подвиг пушкиниста, а это гениальная попытка проникнуть в пушкинский замысел. Он понял, почему Пушкин это писал, и написал эту вещь без пошлости. Хотя ему пошлость часто приписывали.
Дописал он, должен вам сказать, местами на пушкинском уровне. Вот этот домысел пушкинский — совершенно гениальное открытие. Для него трагедия Клеопатры в том и заключается, что она трижды расправляется со своим любовником, а потом, в финале, сама становится жертвой Антония. И это изнанка её владычества, её подчинения. Не говоря о том, что это написано очень хорошо. Это ещё и опыт очень вдумчивой, кропотливой реконструкции чужого замысла. И здесь Брюсов и как ученый, и как поэт постиг очень многое.
Что касается его отношений с Ниной Петровской и самого, собственно, «Огненного ангела». Ходасевич очень язвительно написал об этом в «Конце Ренаты», что вот, Брюсову полагалось скрежетать, а Белый был, значит, светлый ангел, и «Бальдору Локи» (посвящение Брюсова) тоже ему, хотя это гениальные стихи: «Но последний царь Вселенной, сумрак! Сумрак!— за меня». Понимаете, отношение Ходасевича к Брюсову всегда было отношением ученика к учителю. Он всегда сознавал, что он младше, что он всего лишь одноклассник младшего брюсовского брата в гимназии, Александра, что он даже не наследник. Что он в лучшем случае — помощник по устройству стихов Нади Львовой в печать (брюсовской любовницы, которую он потом покинул).
Судя по инскриптам Ходасевича, сохранившихся, он смотрел на Брюсова абсолютно снизу вверх и ходил перед ним на цырлах, при том, что потом, в посмертном очерке, написанном после смерти Брюсова, он постоянно его учит жизни. И в карты он играть не умел, а только коммерческий расчет ему удавался. И с людьми-то он был жесток, и любил-то он пироги с морковью при всем своем ницшеанстве и демонизме. Все-таки это отношение младшего, который сводит счеты.
Я очень люблю Ходасевича и бесконечно его чту, и восхищен его героической гибелью, его героической смертью, когда он ни одной жалобой не унизился. Великолепный человек и грандиозный поэт! Но Брюсов, во-первых, поэт ничуть не хуже, будем откровенны, а во-вторых, все-таки, Ходасевич задним числом все-таки преувеличил себя и преуменьшил учителя. Учителем Брюсов был для всех. Прежде всего в отношении к ремеслу. И как бы мы сегодня не осуждали, может быть, каких-то его целеполаганий, каких-то его установок, мы не можем не признать того, что он знаменует собой архетип поэта, для которого власть не пустой звук, для которого насилие не пустой звук, для которого любовь — прежде всего, драма.
Отношения Брюсова с Ниной Петровской не так просты, как излагает их Ходасевич. Это была не только акция «жизнестроительства» (термин того же Ходасевича, который прижился). Опубликованная их переписка показывает глубочайшую страсть. Вот когда они в гостинице, в Варшаве, лежат в такой тесной кровати, что соприкасаются коленками,— это их общее, счастливейшее воспоминание. Переписка их страстная, переписка по-настоящему любовная, но очень беззащитная, горячая. И видно, что Брюсов, постоянно заковывавший себя в кольчугу, с ней-то позволял себе быть человеком. Может быть, потому что её бороли те же демоны. И именно потому у него получился хороший роман «Огненный ангел», что Рената была для него в какой-то степени автобиографическим образом, отражением собственной души.
«Огненный ангел», как к нему ни относись, это все-таки хорошая проза. Она дурновкусная, конечно, но дело в том, что дурновкусие вообще было отличительной чертой Серебряного века. Олег Ковалов в этом абсолютно прав. Это век массовой культуры в том числе. Не надо просто забывать того, что Брюсов иронически к этому подходил. Он умел над этим посмеяться, и во многих его стихах есть элемент самопародии:
Я помню: в ранней тишине,
Я славил жгучий полдень Явы,
Сон пышных лилий на волне,
Стволы, к которым льнут удавы,
Глазам неведомые травы,
Нам неизвестные цветы.
Да, он это славил. И этот экзотизм был, конечно, предвестником гумилевского; просто Брюсов в Африку не ездил, а Гумилев поехал. Но при всем при этом он умел иронически, насмешливо это обернуть. И в конце концов то, что Гумилев довел его до совершенства — было, что доводить. Брюсовская школа для молодого поэта так же необходима, как Иннокентий Анненский, как его опыт. Просто это другой полюс. И когда я думаю о нем, я думаю о нем всегда с любовью и благодарностью, и с бесконечным сочувствием. Как и надо, в общем, думать о поэте.