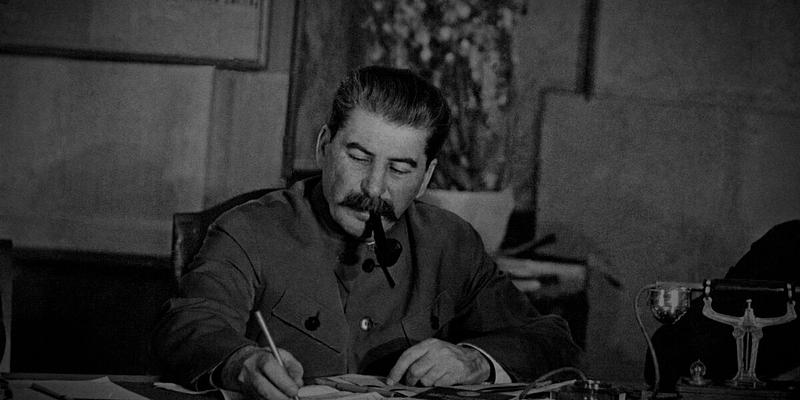У Пушкина было аристократическое отношение к власти, и поэтому смешно говорить, что он как бы написал «Медного всадника», чтобы защитить бедного Евгения от Петра. Тема «Медного всадника» совершенно иная, там описана русская государственная система, конфликт гранита и болот. И Евгений — заложник этого регулярного восстания природы против власти, восстания народа, которое, собственно, и есть метафора наводнения. «Капитанская дочка» о том же самом. Поэтому у меня есть ощущение как раз, что для Пушкина, как для аристократа, власть (особенно власть Петра) неизбежна и жестока, и нужно это принимать.
Другое дело, что процитированные «Стансы» — это тактический ход, это попытка договориться с Николаем, купить себе десять лет работы, что он, собственно, и купил, но какой ценой? Сейчас уже можно признать — мы же любим Пушкина… Как сказано у Мережковского в «Иисусе неизвестном»: «Мы так любим Христа, что можем знать о нем все, мы можем спорить о нем». Мы так любим Пушкина, что можем знать о нем все. Мы можем говорить, что, вероятно, его позиция в сентябре 1826 года, после вызова на коронационные торжества в Москву (в Питере их нельзя было провести по причине карантина) — это трагедия его. Возможно, он сделал единственный ход. По легенде, он же явился во дворец, имея «Пророка» в кармане, рукопись, и она заканчивалась словами:
Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на вые
К убийце гнусному явись.
Правда, там «убийца гнусный» был обозначен первыми буквами. У меня есть ощущение, что ни о каком компромиссе нельзя здесь говорить, потому что у Пушкина это был единственный ход, реально единственный. Но с другой стороны, приходится признать и то, что для Пушкина это была роковая и трагическая ошибка. Так у них страшно получилось, такая это была страшная история.