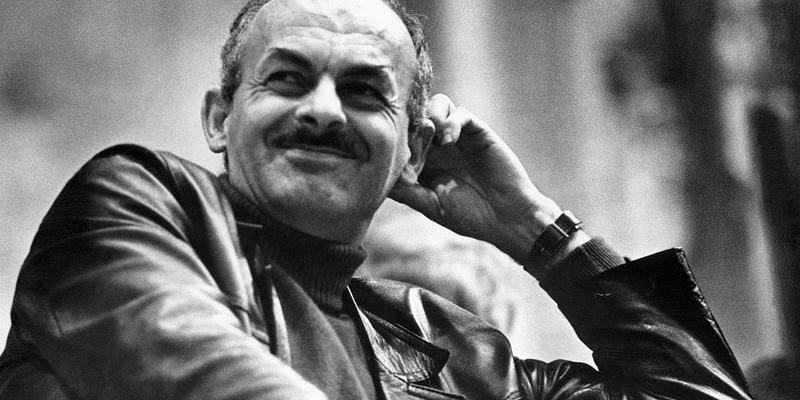Я, конечно, продолжаю думать о Пастернаке очень много. Об Окуджаве, пожалуй, тоже, потому что я сейчас недавно перечитал «Путешествие дилетантов», и возникает масса каких-то новых идей и вопросов. Но дело в том, что я для себя с биографическим жанром завязал. Мне надо уже заниматься собственной жизнью, а не описывать чужую. Для меня это изначально была трилогия, и я не хотел писать, и не писал никакой четвертой книги. А вот Пастернак, Окуджава, Маяковский — это такая трилогия о поэте в России в двадцатом столетии, три стратегии поведения, три варианта рисков, но четвертый вариант пока не придуман или мной, во всяком случае, не обнаружен, или его надо проживать самостоятельно. То есть я не вижу пока темы такой, а то, что я продолжаю о них много думать,— конечно. Продолжаются какие-то лекции о них, статьи.
Но больше всего я сейчас думаю, пожалуй, о Пастернаке конца 30-х в связи с тем, что я пишу сейчас книгу о конце 30-х. Мне очень интересно, как он относился к тем людям, которые так гипнотически действовали на Цветаеву, например. Как он относился к челюскинцам, к летчикам, к этой странной категории, которая называлась «герои»? Когда читаем дневники Бронтмана, все время читаем: «Герои вошли, Сталин пошел к героям». Герои — особая прослойка. Вот как Пастернак относился к этим людям — вот это мне интересно. Вообще он игнорировал их, или они занимали в его сознании какое-то место, думал ли он о них? Вот это для меня весьма любопытно.