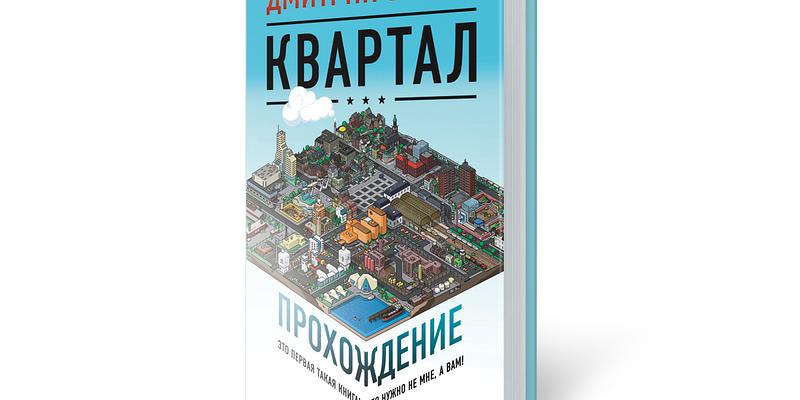Да вот не гарантируют, Ирина! В том-то всё и дело, что они предлагают более мягкий вариант этого тоталитаризма, когда вам страшно иметь своё мнение, когда вам страшно выпасть, отпасть от этого соска, к которому вы всё время подключены. Вы замечаете, что без iPhone (ну, хорошо, без какого-нибудь более дешёвого устройства) уже немножко чувствуешь себя отнятым от материнской груди. Или скажем иначе: как старец, забывший зубы. Помните эту чудесную набоковскую фразу: «Кошмар старика — забыть зубы. Кошмар юноши — расстёгнутая ширинка»? Вот ты чувствуешь себя, как старец, забывший зубы. Когда я его рядом не вижу, у меня возникает чувство странной неполноты. Это подсаженность уже, ничего не поделаешь.
А вот эти дети — они гораздо более самодостаточны. Они более склонны к одиночеству, одиночество их не пугает, и это интересно. Им не так нужен постоянный контроль соцсети. Мы думали, что социальная сеть — это новое. Вот нам казалось, что это новое. А это — старое.
И, кстати говоря, у Стругацких тоже ведь люди вовлечены в своеобразную социальную сеть. Это непрерывная взаимная зависимость. За всеми следит КОМКОН-2 — Комиссия по контактам, которая есть в сущности тайной полицией. Это же прозрачное общество в мире Полудня. Герман был абсолютно прав, когда в своей версии «Трудно быть богом» показал мир Полудня как мир кризисный, мир рухнувший. Они на Арканар убегают не от хорошей жизни. Помните, там возвращаться-то некуда. И это не так просто. Да, наверное.
Поэтому я боюсь государства социальных сетей, я боюсь мира прозрачности. И я верю в люденов, которые не нуждаются в социальных сетях. И вас я к тому же призываю.
У меня остаётся некоторое время для того, чтобы рассказать про книжку о Маяковском, когда она всё-таки будет. Я сам бы очень хотел знать, когда она всё-таки будет. Мне бы вообще было очень приятно знать, что она закончена, что я её сдал. Половину её я отправил редактору, от которого услышал, что «местами хорошо, а местами затянуто»,— на что ему в своей манере ответил: «Сам ты затянут». Конечно, обидно, когда ты четыре года книгу писал, а теперь оказывается, что из неё 15 процентов надо вырубить. Но, слава богу, у меня ещё она не закончена.
Она отличается очень сильно от книг о Пастернаке и Окуджаве. Она имеет такую, знаете… Видимо, действительно после 45 начинаешь испытывать какую-то усталость от традиционных форматов. Покойный Фостер Уоллес, Царствие ему Небесное, писал роман «Бледный король» в совершенно новом формате — это такая попытка сделать разорванное повествование, когда каждая глава летит в читателя с неожиданной стороны.
«Маяковский» — тоже такая довольно дробная книжка. Она имеет подзаголовок «Трагедия-буфф в шести действиях». Почему в шести действиях? Помните, Маяковский говорил: «Сколько действий может быть в драме?» — «Пять».— «У меня будет шесть!» Вот такая идея постоянного превышения. Там его жизнь разбита на шесть таких периодов. Там несколько рубрик.
Во-первых, там есть рубрика «12 женщин». Маяковский перед смертью собирался писать роман «12 женщин» и даже написал к нему поэтический эпиграф:
О, женщины!
Глупея от восторга
Я вам
готов
воздвигнуть пьедестал.
Но…
измельчали люди…
и в Госторге
Опять я
пьедесталов
не достал.
Он рассказал это Наташе Брюханенко — одной из этих 12 женщин. Там есть рассказ про этих 12 главных женщин его жизни и попытка объяснить, почему роман должен был так строиться: вот он как бы такой Христос и вот его 12 апостолов — женщины, в него влюблённые. У него была, кстати, такая манера. И Тоня Гумилина, покончившая с собой от любви к нему, художница, на одной из несохранившихся работ как раз изобразила Маяковского-Христа, а вокруг него — тайная вечеря женщин.
Там есть такая рубрика «Для чего пишу не роман?» — это цитата из Карамзина. Я боюсь, что именно это мне редакция вырубит, но я не дам. Это где разные возможности развития. А что было бы, если бы Маяковский остался с Евгенией Ланг? А что было бы, если бы он остался в Мексике и не сбежал бы оттуда (а он собирался остаться надолго)? А что было бы, если бы Маяковский встретился с Че Геварой? Ну, вот такие вещи, такие гадательные варианты развития.
Каждая глава начинается развёрнутым вступлением. Там есть и биографическая хроника. Но ведь там я что говорю? Жизнь Маяковского не имеет никакого биографического строения, нет биографии. У него есть география и библиография. География — это беспрерывные поездки. Библиография — это список книг и публикаций. И то, и другое есть в замечательной книге Катаняна «Хроника жизни и творчества». Это не надо переписывать. Поэтому я рассказываю сюжет его жизни, как он мне виделся.
Там есть несколько глав «Современники»: есть глава о Луначарском, глава о Горьком, глава о Ходасевиче, который мне представляется таким своеобразным двойником Маяковского, такой страшной к нему парой, довольно интересной. Другая пара — Есенин, конечно. Я говорил о том, что Маяковский и Есенин — на них как бы распался Некрасов. Вообще в XX веке все единства, все целостности распались. Отношения Маяковского и Есенина — это как бы отношения двух противоположно заряженных частиц, которые только в целом могли бы составить поэта некрасовского класса и масштаба.
Я далее там даже делаю опасное предположение (и всё-таки пытаюсь его доказать), что герой «Чёрного человека», тайный двойник — это Маяковский. Неслучайно то, что говорит Чёрный человек — это почти буквальное повторение известного стихотворения «Нате!». «…Прыщавой курсистке // Длинноволосый урод // Говорит о мирах, // Половой истекая истомою»,— это стилистика Маяковского. И, строго говоря, этот распад одной человеческой личности на поэта и гражданина уже у Некрасова есть. Конечно, на поэта и гражданина развалился, условно говоря, Некрасов в 20-е годы XX века. Вот такая тоже интересная история.
По-моему, там довольно занятные главы о подлинном виновнике конфликта Горького и Маяковского. Он довольно известен, но все почему-то Чуковскому приписывают эту клевету, а на самом деле Чуковский здесь абсолютно ни при чём. А кто это — Мария Фёдоровна Андреева подробно рассказала это — Яков Израилевич, её секретарь, безумно влюблённый в Лилю. Кстати, он был на 20 лет старше Маяковского. Печальная ирония судьбы состоит в том, что в последние годы жизни он, жестоко Маяковским избитый, заведовал художественной секцией Клуба писателей имени Маяковского в Ленинграде.
И там довольно много такого литературного анализа, как мне кажется, анализа некоторых его стихов, которые я больше всего люблю. Горько мне то, что в процессе работы над этой книгой я к некоторым стихам и поэмам охладел. Скажем так, я несколько охладел к поэме «Про это», которую раньше считал лучшим произведением Маяковского. Зато мне стал безумно нравиться «Человек». Раньше я очень не любил поэму «Владимир Ильич Ленин». Сейчас мне она кажется замечательным образцом риторической поэзии — может быть, лучшим из тех, что в России существовал.
В общем, эта книга большая, толстая. Ну, может, она поменьше «Пастернака», но страниц 500 в ней, наверное, будет. Скоро она выйдет. Ну, не совсем скоро. Осенью я её очень надеюсь увидеть.