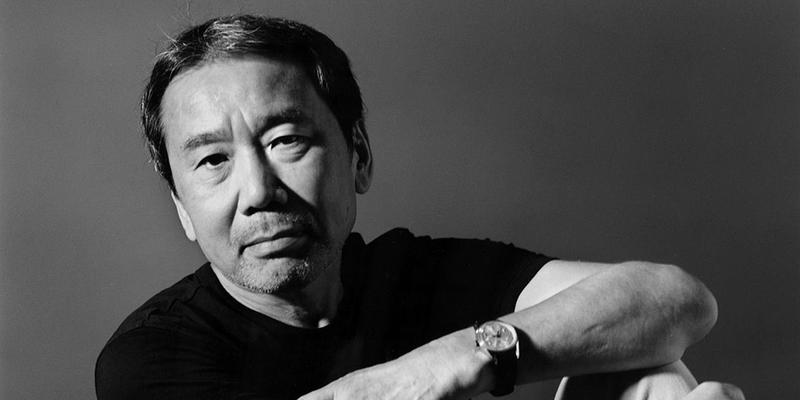Главный прием Кобо Абэ, который мы в последнее время наиболее часто встречаем у Сорокина — это буквализация метафоры, буквальное её осуществление. На этом сюжетном приеме нехитром, как выяснилось, можно строить целый роман. Человек-ящик, когда человек закрывается ящиком и начинает ходить по улицам, нося на себе футляр — это, как писали тогда, кстати, в «Иностранной литературе» в предисловии к публикации, новая метафора «Человека в футляре».
Но если у Чехова футляр — это символ примитивного самосохранения, консерватизма, отказа от роста, перемен и так далее, то для Кобо Абэ это нарастающая изоляция. Это добрый знак, это не трагедия разобщенности буржуазного общества, как писали тогда, нет, это индивидуализация, замыкание в себе, помещение себя в собственный мир. Вот человек изготовляет ящик, там подробно описано его изготовление, прорезает окошечко в картоне, и ходит как сандвич, как с плакатами, но только он закрыт от чужих глаз. Это очень хорошая метафора, очень сильная.
И мне представляется, что человек, который сегодня погружен в айфон — это ещё одно проявление ящиковости. Будем откровенны, в мире идут две тенденции. Одна — это рост влияния социальных сетей, для одних это нарастание постоянного общения. С другой, иногда для тех же самых людей, это все большее отстранение от жизни в коллективе. И я с этим согласен, потому что социальная сеть — это все-таки сфера общения вашей души, а в жизни люди, которые много живут в социальных сетях, как правило, аутичны.
И вот первым заметил это Кобо Абэ, он заметил в «Человеке-ящике», что склонность к изоляции и тенденция к выпадению из жизни — это одна из главных черт прогресса. Человек все больше интегрирован в общую жизнь, и все больше старается от нее сбежать, все больше изолирует себя. Помните, раньше говорили: человек с наушниками в ушах, человек в плеере — он как бы выключен из жизни. Да, выключен. А что за радость быть в нее включенным?
И мне кажется, что эта нарастающая изоляция — это знак довольно добрый. Мне кажется, что, много общаясь в соцсетях, мы будем все меньше пересекаться в реальности. И это может быть не так плохо, потому что общение — это процесс в общем имитационный. Реальное общение происходит телепатическим путем, вот так бы я рискнул сказать. А социальные сети — это прообраз телепатии.
Та же тема изоляции была в «Женщине в песках», потому что вот то, что он оказывается с ней наедине в этой песчаной яме, из которой невозможно выбраться — это на самом деле просто такая метафора любви. Понимаете, с любой женщиной вы оказываетесь в песках, с любым человеком вы заизолированы, вы всегда с ним выпадаете из среды. И конечно, это приводит и к зацикленности друг на друге, и к ненависти очень часто, и к раздражению. Но вы не можете сбежать, вас отделяет эта песчаная стена. Вы провалились в другой мир.
Кстати, это и было очень хорошо у него написано, это такой роман ужасов в некоторой степени, это триллер. И действительно, и «Сожженная карта», и в особенности «Чужое лицо», человек в этой приросшей маске — это очень актуальная для японской культуры тема. Это есть у Эдогавы Рампо, например, который переименовался в честь Эдгара По. Помните, там история, где человек притворился креслом, и где его возлюбленная все время оказывалась в его объятьях, потому что он влез под оболочку этого кресла. Вот этот отказ от лица, отказ от «Я» — это очень любимая японская тема. Понятно, почему: потому что «Я» — это всегда мучение, всегда пытка. Помните, у Акутагавы: «Неужели не найдется никого, кто задушил бы меня во сне?» — вот эта мечта об исчезновении в «Зубчатых колесах».
Я помню, мои студенты пошли со мной на лекцию Акунина, и там спросили, что он больше всего любит у Акутагавы. Он назвал, естественно, «Расемон», естественно, «В чаще» (то есть «В чаще», сам по себе рассказ), естественно, «Муки ада», естественно, «Бататовую кашу». Я спросил: «А «Зубчатые колеса»?» Он: «Нет, это для меня чересчур». И, кстати сказать, и для меня чересчур, потому что более мучительной прозы я в XX веке не знаю. Это ужас, который со всех сторон невротика терзает — «У меня нет убеждений, у меня есть только нервы» — это все Акутагава нам завещал. И Бродский любил это повторять. Это не очень приятное состояние.
И вот надо сказать, что Кобо Абэ, особенно в «Чужом лице», он одержим этой манией бегства от реальности, потому что реальность кусает, ест все время. Желание спрятаться в ящик, в маску, или желание исчезнуть, как в рассказе «Красный кокон», когда человек начинает разматываться, как кокон, и исчезает постепенно. Мне очень понравилось там замечательное стихотворное такое, там два хокку обрамляют этот рассказ, очень страшных таких, таинственных, они мне казались очень таинственными. Когда «Красный кокон» впервые был напечатан в журнале «Нева», и я тогда же его ребенком прочел, вот мне больше всего нравились там эти стихи:
В жаркий день, когда плавятся даже мечты,
Мне приснился ужасный сон.
Надев шляпу, я вышел из дома,
смеркалось,—
И запер на ключ свою дверь.
В день холодный, когда стынут даже мечты,
Мне приснился забавный сон:
В дом вернулась одна лишь шляпа.
Вы посмотрите — 44 года прошло… ну, 43, а я это помню. Это здорово. Я даже не буду сейчас это сверять по оригиналу, но это так. И там же меня поразила фраза: «Почему все не мое? Потому что все уже чье-то». Вот мир человека, у которого все отнято — это мир Кобо Абэ. Да, в дом вернулась одна лишь шляпа, греза об исчезновении себя: как-то меня больше нет — какое счастье, я куда-то делся. Вот это очень интересно.
В этом смысле, пожалуй, самое интересное его сочинение для театра — это пьеса «Призраки среди нас», которая шла на сцене МХАТа, и там потрясающей силы был монолог главного героя, его обращение в зал. Он говорит: «Мы окружены призраками. Вы вдыхаете призраков, вы проходите в толпе призраков». Это было потому ещё так гениально, что любимая мысль, тоже одна из любимых мыслей Кобо Абэ, что мир — это вот то, что остается от бесчисленных мертвых. Мы их не видим, не ощущаем, но мир — это место, это памятник, мир, где были бесчисленные мертвые люди, чьего присутствия мы не ощущаем, но это памятник им, это то, что ими сотворено, то, на что мы наступаем. Ну, это горсть праха, мы ходим по праху бесчисленных мертвых. Это позволяет ощутить жизнь гораздо острее.
Для меня это не очень понятно и не очень близко, потому что знаете, я как-то БГ спросил, в чем его отношение к культуре Востока, почему она ему так важна. Он сказал: «Вот у японцев мир, построенный вокруг смерти, потому что там, в Японии, все строится вокруг идеи предела». Очень маленькие острова и очень мало суши, она со всех сторон окружена водой, как жизнь со всех сторон окружена смертью. И надо жить на этом пятачке, где идея предела, правил, закона, чести, кодекса — она все время тебя караулит, на каждом шагу. Отсюда огромная важность самоубийства и отсюда самурайский кодекс, отсюда призыв Ямамото Цунэтомо: «Живи так, как будто уже умер».
Вот у Кобо Абэ это тоже очень существенно, мир — это результат бесчисленных смертей, и мы ходим по праху и сами им становимся. Вот это чувство, которое было в «Призраках среди нас», оно для меня не органично, я-то вырос в очень большой стране, где идея предела нам совершенно чужда. Но тем не менее мне это близко. Я из всех японцев, наверное, больше всего люблю, конечно, Акутагаву. Очень мне нравится Мисима — не весь, разумеется, но «Исповедь маски» (вот опять вам идея маски), и конечно, «Golden Shrine», «Золотой храм», который я впервые ещё по-английски прочел, а потом в замечательном переводе Чхартишвили.
Для меня из всех японцев, наверное, ещё очень мил, конечно, Оэ Кэндзабуро, но не будем забывать, что именно Оэ Кэндзабуро, нобелевский лауреат, сказал, что лучшим писателем Японии всех времен был, конечно, Кобо Абэ. Вот почему он был так близок в СССР — понятно, потому что повесть «Четвертый ледниковый период» предусматривала коммунизм, как в общем такое наиболее вероятное будущее человечества. Как ни странно, вот эту повесть я помню хуже всего, её мне надо перечитать. Но сама по себе идея такой напрямую буквализованной и реализованной метафоры — эта идея очень красивая.