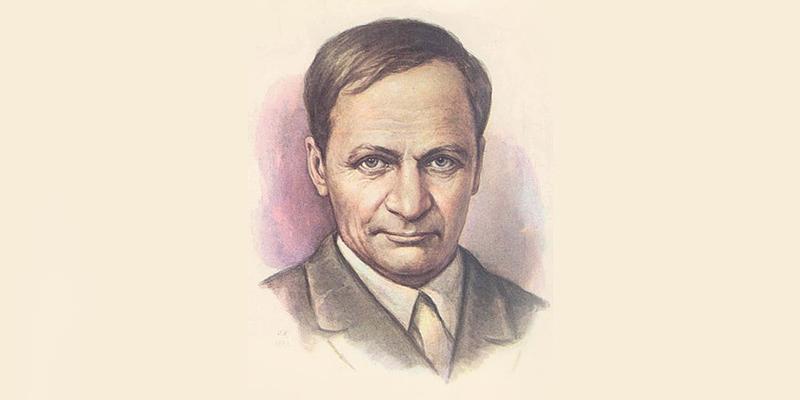Понимаете, Платоновым должны заниматься все-таки профессионалы, типа Корниенко, типа Шубиной, типа Вигилянской — автора лучшей, на мой взгляд, статьи именно о корнях языка Платонова. Кстати, Евгения Вигилянская о Платонове — можно найти её в Сети. Там доказано, что Платонов так же радикально смешивает слои языка, как перемешивается в это время социум. И Платонов (там просто это показано) берет обычную фразу и слова в ней транспонирует в максимально разные регистры. Он берет, если угодно, максимально удаленные стилистически синонимы. Скажем, вместо «Портрета Дориана Грея» это было бы «Парсуна Дориана Серого» или Дориана Седого. Вот так. То есть из фразы, которая звучала бы совершенно нейтрально, он путем перевода разных слов в разные языковые слои как бы ставит эти слова под углом друг к другу. Ну, об этом столько написано. Наиболее наглядно это в бродящей, такой переходной вещи — в «Епифанских шлюзах».
Что касается «Антисексуса». Конечно, это не шутка (при том, что это пародия). У Платонова вообще проблема связи эротики и революции, общества и революции, она поставлена острее, чем у многих современников, потому что он её глубже понимал. Он понимал, что основой патриархального общества является именно семья — и, следовательно, отношения полов. Ну, это понимали, например, и Чернышевский, и Брики. И я подозреваю, что это понимал Ленин. Может быть, поэтому у Платонова в его личной практике семья имеет такое колоссальное значение. И отношения его с женой — это отношения и с музой, и с родиной, и с литературой. И он наделял её действительно, ну, всеми возможными ипостасями, всеми возможными ролями, функциями. Для него отношения с женой — это вопрос жизни и смерти. Это не просто любовь и не просто половое чувство. Так вот, кстати говоря, именно в своей рецензии на Хемингуэя он говорит о примитивной сексуальной любви, которая не может быть альтернативой жизни.
Я бы рискнул сказать так: «Антисексус» — это продолжение той утопии, которая завораживала в России очень многих, и прежде всего Блока. Это замечательно показано в книге Александра Эткинда «Хлыст». Эткинд вообще, к моей радости, становится очень модным мыслителем. Для меня-то он один из главных мыслителей России в последние тридцать лет. А сегодня он в большой моде. Я прочел, например, книгу Ямбурга «Беспощадный учитель», и там цитаты из Эткинда составляют значительную часть текста. Кстати, книга Ямбурга мне представляется ужасно полезной, умной и своевременной. Учителей, особенно профессиональных, надо читать. Не о себе говорю, а о более значимых коллегах. Там жестокий учитель — это век. Беспощадный учитель — это история. Вообще жестокая книга, конечно. Много сказано такого, что лучше и с самим собой не проговаривать. Ну, это бог с ним, ладно.
По мысли Эткинда, достаточно точной, для очень многих русских революционеров революция — это отказ от власти пола, потому что именно пол создает основу для неравенства, угнетения, для раскрепощения животного в человеке. Возникает такая утопия оскопления, которую тут же Эткинд рассматривает на примере русских сект скопческих, которая очень интересовала, кстати говоря, Мережковского — почитайте сцену скопческой пляски. Этот жуткий запах скопческого пота, вообще дико натуралистичная сцена (во второй трилогии, в «Царстве зверя»).
Так вот, для Платонова тоже «Антисексус» — это преодоление животности, преодоление звериного человеческого начала. И революция пришла прежде всего для того, чтобы это начало или отменить, или трансформировать. Платонов думает о том, каким образом можно было бы животное в человеке переделать. Это вечная, кстати говоря, тема — животная. Мы об этом много раз говорили. Как животное в человеке можно претворить, переделать? Об этом и написан «Антисексус».
Просто «Антисексус» вообще надо воспринимать в контексте эротической литературы двадцатых годов. Мы с Лизой Шестаковой — замечательной моей когда-то студенткой, а сейчас уже давно выпускницей — с Лизой Шестаковой, хорошим писателем, готовим довольно большую антологию прозы двадцатых годов, посвященную проблеме сексуальной революции. Туда входят и Глеб Алексеев с его «Делом о трупе», и Заяицкий с «Жизнеописанием Степана Александровича Лососинова», «Без черемухи» Пантелеймона Романова, и «Игра в любовь» Гумилевского, и «Луна с правой стороны» Малашкина, «Маруся отравилась» Маяковского, «Антисексус» Платонова. Кстати говоря, суда я включаю, конечно, Никандрова «Рынок любви» — поразительной мощи повесть! Вот всем её рекомендую. Никандров был писатель от бога, просто был забыт совершенно, затоптан. Мы берем туда эту повесть — страшную, физиологическую, такую человечную, сентиментальную, замечательную!
Дело в том, что раскрепощение секса в двадцатые годы — это переход на мещанский уровень великой сексуальной утопии Русской революции. Если вспомнить у Губермана:
Возглавляя партии и классы,
лидеры вовек не брали в толк,
что идея, брошенная в массы,—
что и девка, брошенная в полк.
Так вот, сексуальная революция двадцатых годов — это брошенная в полк девка вот этих великих идей о раскрепощении духа, об угнетении секса или, наоборот, о сексуальной революции как о залоге революции. Это один из главных споров, одна из главных полемик Русской революции.
Вот как бы сказать так, чтобы это не прозвучало пошло? Но действительно сексуальная неразборчивость двадцатых годов и сексуальная свобода в отношениях вузовцев, комсомольцев, всех этих молодых рабочих, ткачих и прочих, всех этих замечательных синеблузников (все, что так иронически описано у Аксенова в «Поколении зимы») — все это следствие предельной вульгаризации теории Коллонтай о стакане воды, с одной стороны, что вот удовлетворить сексуальную страсть должно быть так же просто, как выпить стакан воды. Но, понимаете, и с другой стороны, в этом есть своя чудовищная логика.
Просто людям было нечего делать, нечем заняться. Они получили и свободу, и образование, и возможность отдыхать в санатории, но им это совершенно не нужно. Вот у Гумилевского в «Игре в любовь» описано, как они приехали в этот санаторий, бывшую барскую усадьбу, и используют этот свой отдых только для совершенно скотского секса, алкоголизма и блева на этих лестницах. Это люди, которым не приходит в голову воспользоваться сокровищами культуры, которые свалены к их ногам.
Я начал постепенно покупать книги издательства «Академия». Они, конечно, дороги, но все-таки сейчас их можно взять, в наши-то времена, в большом количестве. Чем больше берешь, тем как-то больше там скидка. И я начал эту «Академию» (она мне просто для работы очень нужна) постепенно приобретать.
Вот было в это время в России едва ли не лучшее научное издательство в мире. Скажите, многим ли людям были нужны книги этого издательства? На него бросили Каменева, который писал свои вульгарные социологические предисловия к этим книгам (иногда, кстати, очень неглупые). В нем работали лучшие ученые, редакторы, публикаторы, комментаторы, историки, лучшие люди. Кто тогда по-настоящему это читал? Да, это время дало действительно поколение «красных директоров», но это был очень небольшой процент. А в основном трудящаяся масса стала, пользуясь возможностью, к сожалению, удовлетворять самые плоские, самые скотские инстинкты, потому что, к сожалению, антропологической-то революции не произошло. Революция была неглубокой, недостаточно глубокой. И вот Платонов, который взывал к антропологической революции, к величайшей переделке человека, он написал «Антисексус» именно поэтому.
Кстати, думаю, что «Антисексус» написан не без довольно серьезного влияния западной прозы — в частности европейской, в частности Уэллса тоже. Потому что, вообще говоря, Платонов ведь только выглядит в интерпретации некоторых авторов (Чалмаева, например) такой корневой, черноземной силой. Он европейский писатель по масштабу, по начитанности. Он чрезвычайно взрослый, умный и начитанный человек. Вот это, мне кажется, важно помнить, когда мы читаем, например, «Епифанские шлюзы». Здесь я совершенно согласен с Юнной Мориц, что это, по-моему, одно из вершинных его произведений. Вещь беспрецедентная по уму, трезвости, по охвату реальности. Мне кажется, Платонов совершил здесь некое чудо — чудо, которое трудно представить современному автору.