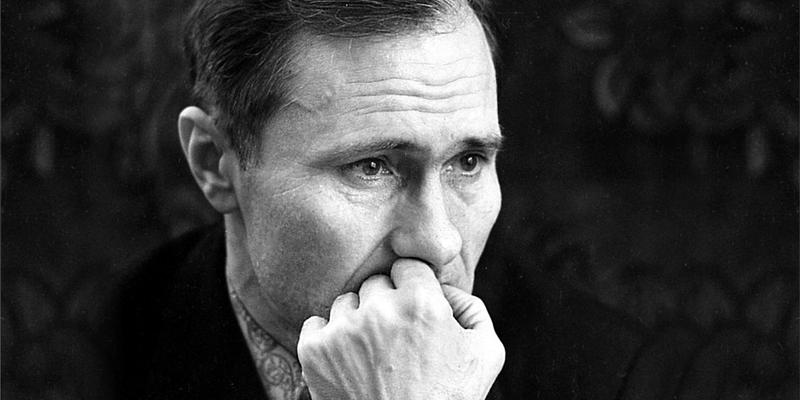Далеко не всегда писатель кого-то морально осуждает или оправдывает. Смешно искать в текстах художника всегда расстановку моральных прежде всего акцентов, тем более что мораль, вообще-то, люди придумали именно для самообуздания. А вот думать о смысле жизни и как-то это совмещать с моралью — это довольно трудно.
Это рассказ… Вот это важно, что вы об этом спросили, потому что этот рассказ вызывает примерно такое же количество вопросов и разнообразных толкований, как «Хорошего человека найти нелегко» Фланнери О'Коннор. Этот рассказ очень похож. Это рассказ об, условно говоря, хорошем человеке, столкнувшемся с абсолютным злом. И вот очень многие задают себе вопрос. Вот бабушка в рассказе Фланнери О'Коннор — она добрая, но она при этом ограниченная, она филистерша, она в общем дура. И действительно, если бы её каждый час расстреливать, она стала бы гораздо лучше. Но, в принципе, она же действительно в какой-то момент почувствовала всех их своими детьми, и поэтому предъявлять ей какие-то претензии нельзя. Не говоря уже о том, что её убили, и всех её детей убили у неё на глазах, и внуков.
Поэтому для меня о чём история про Мисфита, про Изгоя? Она про то, что при столкновении с абсолютным злом не надо искать ему оправданий, не надо искать причин, не надо думать о том, что это зло имело какие-то поводы злиться на окружающих. Вот Изгой говорит: «Я такой из-за Христа. Христос нарушил равновесие. У меня детство было трудное»,— и добавим от себя: недостаток витаминов и деревянные игрушки. И это сейчас, конечно, повод всех убивать на большой дороге?
Равным образом вот этот уголовник, который убивает лесника. Он его убивает просто потому, что у него, кроме охоты жить, никаких других стимулов нет. Его нельзя задобрить, его нельзя растрогать по-человечески. Вот хорошо было Гюго. Гюго верил, что каторжник Жан Вальжан, который ограбил епископа Мириэля, после свидания с этим настоящим праведником (на описание личности которого уходит у Гюго вся первая часть) он, конечно, немедленно передумает и исправится. А хорошо было Стивенсону писать «Ночлег Франсуа Вийона», который, правда, не ограбил священника (ну, это такой парафраз тоже из Гюго), но вступил с ним в серьёзную теологическую дискуссию и о многом задумался. Сейчас уже понятно, что когда вор, грабитель, убийца вступает с тобой в теологическую дискуссию, его следующим аргументом будет выстрел — только и всего. И он будет считать, что он прав, потому что он представляет жестокую реальность, а ты — какие-то сопливые церковные сказки.
Так вот, и рассказ Фланнери О'Коннор, и рассказ «Охота жить» — он о том, что хватит питать иллюзии (ну, так я во всяком случае понимаю), хватит с этими людьми вступать в дискуссию. Когда перед тобой абсолютное, ну, скажем так, онтологическое зло — надо дать ему в морду. Ну, у старушки какая там была возможность? Она могла максимум проклясть Изгоя — и, может быть, это на него бы больше подействовало.
Прошла, ребята, прошла эпоха, когда со злом можно разговаривать, когда на него можно воздействовать благим примером, когда можно лирические исповеди выслушивать и отвечать в ответ евангельскими проповедями. Евангельская проповедь должна сейчас выглядеть совершенно конкретно: если ты увидел перед собой убийцу, если у тебя нет возможности его уничтожить, ты должен убежать; а если у тебя есть такая возможность, ты должен умереть, причём умереть так, чтобы он задумался. Вступать с ним в полемику бессмысленно. Он не думает. Он занят только выживанием, охотой жить и оправданием себя. Хорошего человека найти нелегко. А когда он находит хорошего человека, он первым делом его убивает.
Кстати, я бы посоветовал вам почитать Фланнери О'Коннор. Мне кажется, послевоенная литература американская — она больше, чем Европа, как ни странно, поняла о природе зла. И может быть, такой рассказ Фланнери О'Коннор, как «Перемещённое лицо», он больше вам скажет о христианстве после Освенцима, чем подавляющее большинство теологических или культурологических полемик, и уж больше точно, чем Адорно.