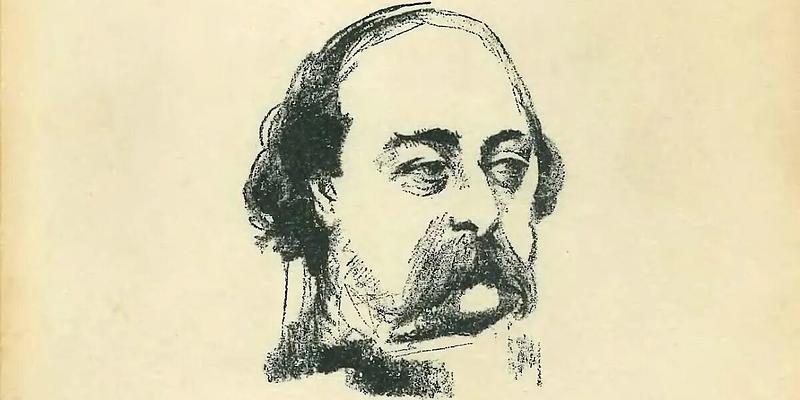Владимир Николаевич дорогой, если вы меня сейчас слышите, я вас поздравляю от всей души! Вы один из моих любимых современных авторов. Люблю я вашу решимость, свежесть взгляда, светлую и храбрую душу. Но поговорить я хотел бы не только о безусловных достоинствах вашего человеческого поведения, но прежде всего о вашей литературной манере.
Мне кажется, вы последний сатириконец. Потому что Войнович — он вообще, как говорил Аверченко, по-моему, о Тэффи, «владеет тайной смеющихся слов». У Войновича всегда смешно, о чем бы он ни писал, даже если он пишет о себе. В этом смысле его «Автопортрет», замечательная мемуарная книга,— это тоже насмешливая биография. И в ней, о чем бы он ни писал, даже о своем инфаркте, он умудряется рассказать весело.
Теперь что касается образа народа — того нового, что внес Войнович в эти черты этноса. Я не разбираю сейчас его ранние вещи, хотя, конечно, «Хочу быть честным» — прекрасный образец шестидесятнической литературы. Я бы остановился на повести «Путем взаимной переписки».
Вот это история, где одна несчастная и хищная семья обработала, споила, присвоила другого несчастного солдатика, который путем взаимной переписки познакомился с так называемой девушкой-заочницей, а девушка оказалась матерью взрослого сына. Потом его опоили и силком женили, этого несчастного солдатика. Вся эта история являет собой в исполнении Войновича не просто печальный бытовой анекдот (что очень важно), а она построена на тончайшем синтезе сентиментальности и едкой насмешки. Вот с этой едкой насмешкой он умудряется писать о жизни российской деревни, российского солдатика, российского вот этого, конечно, не среднего класса, а даже придонного слоя, вот этой спивающейся, нищей, голодной деревни. Он умудряется писать без умиления, надо сказать, и с чувством полной заслуженности всех этих бед, которые обрушиваются на главного героя, потому что он сам дурак, конечно. Но при всем при этом в нем живет какая-то нежность — вот нежность к этим людям, к этому брату Борису, к этой заочнице, к их пирогам с грибами. Какая-то в них есть трогательная неубиваемость в их цеплянии за жизнь, в их выживаемости колоссальной. И вот это насмешливое умиление делает его во многих отношениях именно сатириконцем.
Он, кстати говоря, гораздо более нежный писатель, чем Щедрин, потому что… Можете себе представить, чем был бы Чонкин, если бы его Щедрин написал? А «Чонкин» — это тоже книга полная умиления. Мне больше всего в «Чонкине» нравится третья часть, последняя, потому что в ней больше всего веселого абсурда. Понимаете, когда я читал первую часть «Чонкина», я не мог отделаться от ощущения, что это все-таки кощунство. Но, разумеется, потом я несколько повзрослел, избавился от детских штампов идеологических, которыми был заморочен.
Мне представляется, что два главных народных эпоса семидесятых годов — причем не в России, а в мире — это «Чонкин» и «Сандро из Чегема». Очень разные две книги. Их обоих считали сатириками — и Войновича, и Искандера. Оба они поэты, и оба начинали со стихов, и с очень неплохих. Многие стихи Войновича стали песнями. Баллады Искандера сделали ему имя задолго до «Созвездия Козлотура».
И вот именно то, что они оба поэты — этот факт предопределяет их способность к эпосу и интерес к эпосу. Это два народных романа. Конечно, и Чонкин не Швейк, и Сандро не Швейк, но оба романа плутовские. Сандро — безусловный трикстер. Чонкин для трикстера, конечно, простоват несколько — он слишком разварной, слишком манная каша. Тем не менее, в нем есть трикстерские черты главные: он действительно создает вокруг себя чудеса. Чонкину достаточно появиться, чтобы абсурд жизни вокруг него стал нарастать, чтобы он обнажился. Как бы своим природным здравым смыслом, простоватым, он действительно подчеркивает и проявляет абсурд античеловечной системы.
И самое интересное (вот это, пожалуй, главное знамение XX века), что героем-трикстером XX века стал не Дон Кихот, а Санчо Панса. В архетип Санчо Пансы укладываются и Чонкин, и Сандро, и Швейк. При том, что они разные, но все они трое выросли из Санчо Пансы. А где Дон Кихот? А Дон Кихота убили. Его убили давно, ещё в первые минуты этой войны, в первые минуты этого века. И вот поэтому началось путешествие народного героя.
Надо сказать, что дядя Сандро — это носитель не только лучших, но и худших черт народа. И мне представляется, что в поведении дяди Сандро и в его плутовской биографии гораздо больше насмешки, чем такого сострадания, которое есть у Чонкина, которое достается Чонкину. Тут проблема в том, что все-таки действительно Искандер, сочиняя свой сухумский эпос, эпос Мухуса, эпос Абхазии, он опирается на традицию, в этой традиции он глубоко укоренен. Он, помнится, мне говорил: «Зачем говорить «кавказское», когда можно сказать «традиционное», «патриархальное»?» Кавказ — это символ древних понятий, родовых. И дяде Сандро есть на что опереться. И поэтому Сандро из Чегема — это эпос о том, как традиция со всеми её дурными чертами, но с культом дома и культом чести, мучительно умирает в XX веке. Отсюда печальный и пессимистический финал романа: «И больше мы не вспомним о Чегеме, а если и вспомним, то нескоро заговорим».
А вот для Войновича Чонкин как бы подвешен в воздухе, он не опирается на традицию. Да, он такой Иванушка-дурачок, действительно он Иван-дурак. Но ведь Иван-дурак — это герой ненаписанного эпоса. Этого эпоса не существует, он недособран, недодуман. Русский фольклор по-настоящему не интерпретирован.
И конечно, в России традиция очень сильно искажена государством. Вот хорошо Чегему — он малый народ, малое село, у него есть своя мораль, и он государством не присвоен, не приватизирован. А Чонкин — это именно приключения Ивана-дурака в стране дураков. И надо сказать, что эти дураки к нему чудовищно жестоки. Он отдельный, он другой. Это русский дух, который протестует против русского же государства, против того царя Гороха, который абсурдизирует все, к чему он прикасается. Чонкин не имеет за собой живой и плодоносной традиции. Вот в этом трагическое отличие Чонкина от чегемского Сандро.
Другое дело, что у Чонкина есть Нюра, которая собственно воплощает собою лучшие черты Родины-матери — доброй, понятливой, умелой. И как-то в Чонкине проведена очень точно эта мысль, что настоящая Родина — это русская женщина, не та грозная Родина-мать, которую мы видим на плакате, а вот эта Нюра, добрая толстая Нюра. Вот это воплощение лучших материнских черт. Эта дихотомия матери и мачехи в образе Родины очень четко прослеживается. И поэтому единственная традиция, единственная опора, которая есть у Чонкина,— это всепрощающая, всевыносящая добрая Нюра. И отсюда колоссальная роль этой женщины. Чонкин не трикстер уже хотя бы потому, что рядом с ним женщина есть, и он продолжает её забирать в свою Америку в финале, как вы помните, вставил зубы ей там. А рядом с дядей Сандро, классическим трикстером, какая же может быть женщина? Только он такой покоритель бесчисленных сердец, такой совершенно классический Насреддин, перенесенный в Чегем. А Чонкин — все-таки несколько иное. И поэтому романы Войновича, их трилогия — они именно о герое, лишенном основы, лишенном опоры.
Мне особенно нравятся две прелестные повести Войновича о писательском быте — это «Иванькиада» и «Шапка» — два прелестных произведения, которые рисуют писательские нравы. Писатели, конечно, составляли ничтожную часть народа, но очень показательную. Именно вырождение так называемой творческой интеллигенции, именно её превращение по большому счету даже не просто в орудие режима, а в отходы режима — вот это у Войновича написано великолепно, безжалостно. Что мне нравится в нем? Это его железно ясный, прозрачный и четкий стиль, его называние вещей своими именами. Именно этот пафос называния вещей своими именами делает его прозу такой остроумной, потому что нет ничего остроумнее правды.
И конечно, нельзя не сказать про «Москву 2042». Там в чем история? «Москва 2042» — это не просто антиутопия, это ещё и чрезвычайно многоэтажная и масштабная пародия на все антиутопии вместе взятые. Она резко снижает стиль. Обычно антиутопия — это вещь патетическая, вроде «Приглашения на казнь» или «1984», это трагедия. У Войновича это жестокая пародия на антиутопию, то есть: как бы вы думали, что вас убьют ножом из-за угла, а вас задушили носками в подворотне. Там пародируется все.
И отсюда такая, как сказал бы Бахтин, «педалированная тема срамного низа», чрезвычайно важная для «Москвы 2042». Это прежде всего вторичный продукт. Вот здесь гениальная, конечно, догадка Войновича: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично». Дело-то не в том, что все должны сдавать дерьмо и за это будут получать свинину по-вегетариански. Конечно, не в этом дело. А дело в том, что все в этой империи — продукт вторичный. И патриарх Звездоний, и тенденция обязательно перезвездиться, и все эти картины, которые висят там (помните, когда комнатка для самоублажения в борделе, и там висит встреча патриарха Звездония с доярками, если мне память не изменяет),— это все, конечно, в огромной степени уже было, это вино один раз пили, этот продукт уже один раз ели. Он угадал главное — безумную вторичность, второсортность вот этой империи, понимаете, которая там возрождена.
Конечно, дело не только в его отношении к Солженицыну, который тоже в своей общественно-политической ипостаси, чего говорить, довольно вторичен и бывал иногда смешон. Я думаю, что Войнович недооценивает Солженицына как писателя. И все, что он пишет о нем как о публицисте — это, может быть, и верно, и справедливо, но Солженицын дорог нам не этим. Иное дело, что он абсолютно угадал Солженицына, именно второсортность его позитивной программы, именно её глубокую вторичность.
И вот самое обидное — это то, что мы переживаем сейчас в России — это даже собственно не то, что в ней, условно говоря, побеждены какие-то условные либералы. Они не побеждены, потому что и баттла никакого не было. Они, можно сказать, просто в рамках исторической парадигмы ждут своего часа. Проблема в ином. Проблема в том, что и не победил никто, что победители — это такие обноски, такая сволочь (от слова «своло́чь»), такая рухлядь (от слова «рушить»). Поэтому мне представляется… Хотя она на самом деле означает совсем иное, означает она «мех». Поэтому мне кажется, что главная догадка Войновича — это вторичный продукт. Ну а вторичный продукт всегда, как мы знаем, довольно хрупок.
Поздравляю вас, Владимир Николаевич!