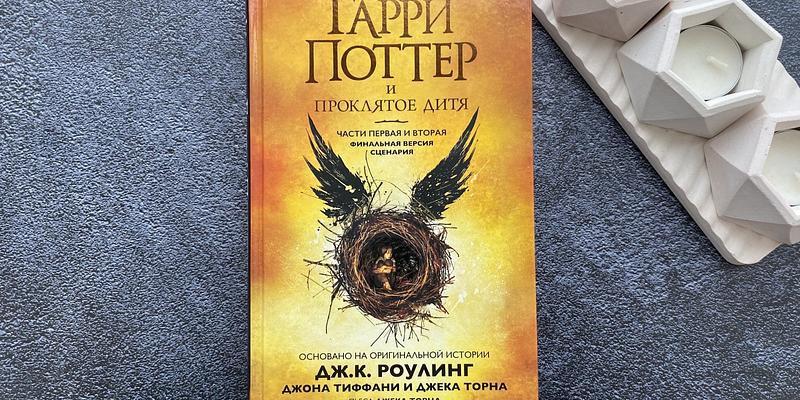Крайне неоднозначная книга Владимира Войновича 1975 года «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». В этом произведении Войнович показывает войну и все советское в сатирическом свете, подчеркивая их глупость, иронию и унизительность. Главный герой Иван Чонкин в начале книги является простым сельским жителем, фермером, таким портретом «естественного человека», а потом его внезапно застает война и начинается череда его «необычайных приключений».
Это роман, который выбивается из обычного ряда по двум причинам. Во-первых, автор книги жив и активен в свои 86 лет. Когда приезжала Эллендея Проффер, его главная американская издательница, она сказала, что невероятно и как-то даже странно на общем анемичном фоне русской литературы нынешней видеть неувядаемого, энергичного, на все реагирующего, чрезвычайно веселого Войновича. Действительно, как-то Владимир Николаевич Войнович среди всего своего поколения всегда выделялся какой-то поразительной неубиваемостью. Уж казалось бы, и отравить его пытались, и травили удивительно дружно, и инфаркт он перенес в эмиграции, и тем не менее сам он остается активен, выпуская в год по книге, и роман его про Ивана Чонкина, как-то по-прежнему неувядаем. А вот с этим связана вторая причина.
Трилогия «Солдат Иван Чонкин», первый том которой появился, естественно, за границей, в 1975 году, я сам не могу сформулировать свое отношение к этой книге. Ну то есть, я понимаю, что это очень хорошо, но до сих пор, когда я перечитываю «Чонкина», меня не покидает ощущение некоторого кощунства. Видимо, потому, что я советский ребенок, и в 1975 году, когда вышла эта книга, конечно, она была у нас в доме, но если бы я тогда ее прочел, у меня было бы полное ощущение, что автор — это враг народа. Когда я ее читал в юности, в 1989 году, ее тогда напечатали, на излете советской власти, напечатали причем только первый том, у меня тогда и то, при всех моих не очень советских взглядах, было ощущение, что Войнович перегибает палку. И страшно сказать, оно у меня есть и сейчас.
Скажу вам больше, по меркам 1975 года, роман Войновича, конечно, кощунство, но по меркам года 2017, когда мы с вами встречаемся, это государственная измена. За это время Победа успела превратиться в главную духовную скрепу. От правды о войне мы сегодня гораздо дальше, чем в 1975 году, и сказать ее нельзя, и потому, что ветеранов осталось очень мало, и они не в том возрасте, когда можно бороться за правду, но и потому, что эта правда никому не нужна. Вам же сказал уже министр культуры, что история движется мифами. Поэтому перечитывать сегодня первый том «Чонкина», а он самый известный, это примерно, как глотать гранату, очень странные ощущения вызывает эта книга.
Ничто не указывало на то, что Владимир Николаевич Войнович сделается диссидентом. Он начинал как поэт, точнее будет сказать, что начинал он как разнорабочий, потому что он за долгие годы своей долитературной биографии, а он сравнительно поздно, уже в тридцать лет, начал печататься, он успел испробовать многое. Три года служил в армии, как тогда было принято. Естественно, успел поработать и строителем, и водителем, а в литературу пришел через широко тогда известное объединение «Вертикаль». Левин им руководил, Окуджава туда захаживал, и Войнович там дебютировал стихами.
Начинал он не просто как поэт, а как поэт-песенник, знаменитая песня «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы», «Заправлены в планшеты космические карты» — это все Войновича, и это очень нравилось Хрущеву.
Он дебютировал как прозаик повестью «Хочу быть честным», в «Новом мире», Твардовский его выделил. И самое невероятное, вот этому не верит никто, и я не поверил, когда он мне рассказал, когда он в 1969 году закончил первую часть «Чонкина», он решил напечатать ее в «Новом мире» у Твардовского. На искренний вопрос, верил ли он в то, что такая публикация возможна, он сказал, нет, я подал книгу туда исключительно, чтобы у меня было оправдание, когда ее напечатают на Западе, я скажу, а вот я честно пытался у нас, но мне не дали. Между тем, наверное, какой-то ничтожный шанс, что она проскочит, по меркам оттепели, году еще в 1965, может быть, он был, но ужас в том, что как раз в 1965 году Войнович начал ее писать. Придумана вещь была в 1957 году, закончена ровно пятьдесят лет спустя, на всю трилогию полвека ушло.
Чонкин — реальное лицо, это маленький солдатик, такой весь какой-то обвислый, кривоногий, очень неловкий, которого увидел, точнее, ослышкой, настоящая фамилия его была другая, увидел его Войнович во время собственной своей службы. За это время Чонкин, с его неуклюжей фамилией, с его внешностью, с его удивительной способностью договариваться с лошадьми и полным неумением ладить с людьми, стал он действительно таким советским Швейком.
Но здесь я хотел бы, конечно, читателя предостеречь от слишком легкого отождествления. Конечно, он никакой не Швейк, потому что Швейк — это такой массовый человек Европы. Он идиот, во-первых, он филистер, он довольно самодовольный тип. В нем есть какая-то милота и хитроватость, но в целом он туп, как дуб. В Швейке видеть какие-то духовные начала совершенно смешно, и Швейк — это карикатура на европейского мещанина, попавшего на войну. Знаменитое отождествление Швейка с Гашеком, оно не имеет никаких под собой оснований, Гашек, это человек, не взирая на всю свою одутловатость, тонкий, остроумный, язвительный, человек высокой европейской культуры. Швейк — дубина.
Чонкин — не дубина, вот в чем все дело. Чонкин — это трогательный по-своему сельский житель, любящий, все умеющий. Чонкин — это такой, понимаете, естественный человек. Вот это, как ни странно, такой, пришедший почти из XVIII века, естественный человек. У Войновича, как у очень многих людей советской эпохи, было такое, довольно наивное что ли, убеждение, что если русского человека оставить в покое, то есть поместить его в правильные условия, он способен выдавать великие результаты, но его все время шпыняют, и поэтому он постоянно забит.
Кстати, как ни странно, ведь кем становится Чонкин в финале? Он попадает в Штаты, после войны, и там становится преуспевающим фермером. Приезжает сюда раз в год, живет месяц с Нюрой, привозит ей лекарства из Америки, все, что ей нужно. То есть он, когда он оказался в Штатах, всю свою вислогубость и прибитость потерял, и стал абсолютно преуспевающим членом общества.
Тогда существовало вот эта, сейчас, конечно, сильно поколебавшееся, глубоко советское убеждение, что если от нашего человека отстать, он способен на чудеса. Как показал опыт, если от нашего человека отстать с этой советской муштрой, он как раз склонен довольно быстро откатиться назад, а иногда и просто оскотиниться. Получилось, что советская власть, со всеми ее зверствами, она была не так уж однозначно убога, и, может быть, она требовала от людей какой-никакой модернизации. Но роман Войновича относится к той эпохе, когда советская власть вырождалась и считалась главной помехой на пути нормы, потому что все нормальное она отрицает: нормальную любовь, нормальное трудолюбие, нормального Чонкина, который в конце концов просто хочет работать и любить свою Нюру, и чтобы никто не мешал ему. Вот это такая, немножечко идеалистическая концепция лежит в основе этого романа.
По жанру своему, как правильно совершенно определил его Войнович, это роман-анекдот. Синявский писал, что анекдот и блатная песня — два главных вклада советской власти в историю и культуру. Действительно, других жанров новых мы не изобрели, а вот это было наше. Анекдот ведь, это не просто побасенка и не просто хохма. Анекдот просовывает свой нож в щель между реальностью и вот этим лакировочным дурацким ее изображением. В анекдоте всегда есть довольна серьезный, а иногда и просто научный посыл. И вот «Чонкин» — это как раз анекдот о том, как из войны делают героический миф. Война, в изображении Войновича, простите за невольный каламбур, подчеркнуто глупа и негероична.
И вот это первый потрясающий революционный вклад Войновича в литературу. Уже тогда, слушайте, 1975 год, я хорошо это помню, это первый по-настоящему громкий юбилей Победы. Еще в 1965 году, мне рассказывали родители и родственники, еще в 1965 году это отмечалось гораздо менее помпезно. 1975 год, тридцатилетие Победы, — это уже брежневская мифологизация, и уже фильмы, книги, спектакли выходят к ней, все рапортуют, уже она залакирована абсолютно, уже сказать какую-то правду о войне очень трудно. И правда в таких книгах, как скажем, у Кондратьева, пробивается тогда уже к читателю с величайшим трудом. Потребовался Симонов, чтобы пробить и Кондратьева, и «Солдатские мемуары». А то, что пишет о войне Войнович, это как-то подчеркнуто унизительно.
Это, во-первых, дикий бардак. Во-вторых, это постоянно мешающие всем, мешающие воевать идеологи, политруки, чекисты, то есть то, что народ выиграл войну, получилось, что он выиграл ее абсолютно вопреки всему. В-третьих, Сталин и Гитлер идиоты, и они выведены в романе оба абсолютно безнадежными кретинами, никакого стратегического мышления, только трусость, завышенные представления о себе и полное непонимание того, как устроен мир.
Ну и конечно, эта книга проникнута невероятной ненавистью к чекистам, потому что такое мы встречали редко, когда капитан Миляга, думая, что он попал в плен к немцам, а на самом деле он находится у своих, начинает кричать, что он происходит из «русише гестапо», это гораздо более отважно, чем весь Гроссман, у которого осторожно была высказана мысль, по-моему, кстати, неверная, о родстве советского и германского режимов. Внешнее родство было, но внутренне они очень различны. А вот Войнович не боится вслух сказать, что НКВД — это «русише гестапо», место, где цель — убить как можно больше русских. Когда, желая понравиться немцам, капитан Миляга начинает кричать «Да здравствует Гитлер!», вот это, пожалуй, самая откровенная и самая, если угодно, пронзительная сцена романа.
Там очень много сатиры, направленной на советскую глупость. Там есть такой селекционер-мичуринец, доносчик, который на всех стучит и выводит гибрид картошки с помидорами, который называется «ПУКС», путь к социализму. Там есть конь, который в соответствии с советскими, с лысенковскими принципами, превращается в человека, то есть обретает речь и разум, и после этого не хочет работать в колхозе. Когда этого коня находят убитым, у него под копытом записка «Считайте меня коммунистом». То есть издевательств, на самом деле, над всем советским, там необычайно много.
Но есть в этом романе, надо сказать, и удивительно какая-то человечная, совсем не сатирическая линия. Вот это линия Чонкина и Нюры. Дело в том, что такая фигура, как Швейк… Попробуем представить себе влюбленного Швейка, это совершенно невозможно. А Чонкин, это человек, для которого любить и работать естественно, как дышать. Вот работающий Швейк, это тоже немыслимо, Швейк сидит в пивняке. А Чонкину нравится работать, он находит в этом счастье. Как он попал в эту деревню? Там сломался маслопровод у летчика, и летчик рухнул прямо к Нюре в огород, накануне войны. И охранять этот самолет, пока его будут чинить, направлен к Нюре Чонкин. Ровно в это время начинается война. Чонкин охраняет свой самолет, спит с Нюрой, починяет ее забор, помогает ей в колхозной ее работе. И в общем, у них идеальные практически отношения.
А дальше про Чонкина просто забыли. Забыли потому, что в Советской Армии, вот это для Войновича очень важно, наблюдаются две тенденции. С одной стороны, все безумно заорганизованно, и все страшно боятся, рапортуют, учитывают, переучитывают, в общем, делают все вместо реальной войны, вместо реальной боевой подготовки. А во-вторых, с другой стороны, живой человек в этой армии настолько всем безразличен, что стоит Чонкину выпасть из реестров, его прикомандировали к этому самолету, и все забывают про него, не знают даже, собственно, кто он такой.
Значит, в результате пишут донос про Чонкина и его бабу, когда проходит донос по инстанциям, он видоизменяется, и там уже слышат, что у Чонкина банда, они затерроризировали всю деревню. Арестовывать эту банду идет капитан Миляга, а Чонкин, думая, что на него идут враги, простреливает одному из чекистов ягодицу, и всех их берет в плен. В общем, возникает такой идиотский бардак вокруг этой фигуры. А дальше пошел слух о том, что у Чонкина в родной его деревне, там же подняли всю документацию на него, была кличка Князь, потому что он родился после того, как у его родителей квартировал князь Голицын. Возникает идея, что Чонкина заслали белоэмигранты.
Поскольку советская власть из всего норовила сляпать политическое дело, вокруг Чонкина начинает нарастать дикая мифология, он становится опасным диверсантом. В общем, весь этот бред, а когда читаешь, это производит полное впечатление бреда, весь этот бред кажется даже не забавным. Но с другой стороны, он настолько типичен и настолько похож, что Войнович, конечно, попал в нерв. Вот эта атмосфера одновременно заорганизованности и дикого бардака, дикого хаоса, особенно для первых дней войны, это характерно.
Мне скажут, конечно, это трагедия, а Чонкин — это персонаж комический, Войнович позволяет себе иронизировать над первыми месяцами войны, которые были так трагичны для России. Но начнем с того, что первые месяцы войны были так трагичны для России не просто так и не совсем беспричинно, ведь в конце концов был Сталин, который сделал все возможное, чтобы извести военную верхушку. Были люди, которые массово сдавались в плен, были целые деревни, встречавшие немцев хлебом-солью, потому что они представлялись избавителями. В общем, была страна, доведенная до совершенно скотского состояния. И проявлять героизм она начала лишь тогда, когда поняла, что немцы угрожают самому ее существованию, что они во многих отношениях хуже большевиков.
Ну а во-вторых, вот здесь такое довольно сложное соображение, война, вообще-то говоря, она может быть темой комедии, и может быть темой анекдота. В конце концов, военных анекдотов существовало довольно много, Войнович сам пишет о том, что он слышал множество баек о войне, ветераны неохотно вспоминали, а байки и слухи они рассказывали очень охотно, и вот этот жанр его вдохновил. В конце концов, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым, и, наверное, в этом есть действительно какая-то аутотерапия, потому что, когда он сочинял роман, он таким образом преодолевал, избывал ужас вот этой памяти о войне.
Он сейчас довольно странно читается, хотя я очень люблю всего «Чонкина», просто мне нравится эта фигура, меня безумно трогает Нюра, очаровательная, и вообще там много доброты какой-то, человечности, насмешки. И эта насмешка прекрасно помогает снимать нынешний невроз, когда вокруг войны громоздится истерика непрерывная, но при всем при этом анекдот, растянутый на роман, производит довольно странное впечатление. Он несмешной. И хотя в «Чонкине» много смешного и много точного, в целом эта книга читается с ощущением какого-то душноватого морока, но с другой стороны, очень может быть, что Войнович этого и хотел.
И книга эта, в конечном итоге, она о бессмертии народа, поэтому претензии к этому довольно странные, просто не надо отождествлять народ и партию, народ и государство, народ и идеологию. Народ, он сам по себе. Вот Чонкин, это тот самый русский, на которого не действует идеология, Россия вообще страна не идеологическая. Это человек, который действительно больше всего хочет, чтобы его оставили в покое.
А вот чем он будет заниматься, когда его оставят в покое, это не очень понятно.
Он, может быть, действительно будет просто стоять, тупо уставившись в одну точку. Я не думаю, что он будет пить, миф о русском пьянстве сильно преувеличен. Я не думаю, что он будет бездействовать, как буддисты. Но дело в том, что пока еще никто не понял, что он будет делать, потому что его в покое никогда не оставляли, всегда либо внешние враги, либо внутренние начальники, которые, может быть, еще и похуже. Поэтому вот эта мечта о том, чтобы человеку дали просто быть, она и пронизывает роман.
Судьба романа была забавной. Забавной, если, конечно, не считать, что для Войновича самого она была исключительно трагической. Он был каким-никаким, но легальным советским писателем, когда он в 1970 году отчаялся эту книгу хоть кусками напечатать в России, она ушла в самиздат. В 1975 он дал отмашку печатать ее за границей, и на этом с его советской карьерой было, конечно, покончено. До 1978 года, в котором он досочинил второй том, он продолжал оставаться еще советским гражданином, подвергался непрерывной слежке, травле. Пытались его один раз, как вы знаете, отравить, и он нашел документы, об этом рассказывающие. Он болел, он вынужден был распродавать обстановку, он жил в обстановке постоянной слежки.
В общем, до самого отъезда, а его фактически вытеснили, пожалуй, его судьба сопоставима только с участью Георгия Владимова, который тоже активный довольно диссидент, и печатавшийся, и помогавший другим печататься за границей, тоже жил вот также двойственно, его спасало от физического уничтожения только напряженное внимание западных корреспондентов. Что бывало здесь с диссидентами, про которых мало знали на Западе, показала судьба Константина Богатырева, который в том же аэропортовском доме, где жил Войнович, насколько я знаю, они были ближайшие соседи и друзья, он был просто убит бутылкой по голове.
И скорее всего, если бы за судьбой Войновича не следила в четыре глаза вся мировая публицистика, и если бы у Брежнева не было бы некоторой еще такой иллюзорной зависимости от Запада, от западного мнения, конечно, судьба Войновича была бы печальной, раздавили бы, как орех. Но этот орешек оказался крепкий, он уехал на Запад, там благополучно издал второй том «Чонкина», «Шапку», «Иванькиаду», много своих замечательных сатирических текстов, которые никак не могли бы появиться в России.
Дальше он, уже после перестройки, напечатал «Чонкина» в «Юности». Сразу кинулся ставить эту вещь Эльдар Рязанов, ему очень понравилась эта книга, он даже собаку свою назвал Чонкин. Но у Рязанова не получилось, там издатели не договорились о правах. И в результате картину, с Геной Назаровым в главной роли, достаточно слабую, снял Иржи Менцель. Так Чонкин был как-то частично, половинчато легализован.
Но и до сих пор, что самое удивительное, книга эта остается крамольной. Крамольной остается прежде всего потому, что Войнович о главной духовной скрепе попробовал заговорить без пафоса. Ну, а уж когда была напечатана «Москва-2042», один из самых его провидческих романов, в котором есть патриарх Звездоний и непременное требование «перезвездиться», то есть как бы нарисовать звезду вместо креста, тут уже стало понятно, что Войнович неисправим. Самое ужасное, что он оказался абсолютно прав, и в «Москве 2042» мы сейчас и живем, правда, все случилось гораздо быстрее, чем он предполагал.
Победила та самодержавно-православная духовность, олицетворением которой был для Войновича, кстати, и Солженицын, выведенный у него под именем Сим Симыча Карнавалова. Всю карнавальную духовность Солженицына, всю его литературу, кроме первых двух рассказов, Войнович считал абсолютной фальшивкой, поссорился с ним очень серьезно, написал про него замечательный памфлет «Солженицын на фоне века», и вообще посягнул и на эту скрепу тоже.
Поэтому слава его, и положение его, остаются до сих пор не то чтобы двусмысленными, но какими-то вызывающими, какой-то челлендж есть в самом существовании Войновича. Может быть, это его и подзаводит, и дает ему такую силу жить. В последующих своих книжках — в «Монументальной пропаганде», в «Автопортрете» — он задумался над собой, как над феноменом, потому что какая-то феноменальность, какая-то удивительность в Войновиче действительно есть. Главным образом потому, что он абсолютно не поддается ни на какие гипнозы, и как-то ему совершенно не свойственно чувство страха.
Я начинаю думать иногда, что Войнович, он и есть такой русский человек, каким он задуман в идеале, бесстрашный, несколько циничный, подмигивающий читателю, веселый, упорный, неубиваемый. Но терпеть русского таким ни русское начальство, ни, что удивительно, сограждане, все еще не готовы, поэтому их гораздо больше устраивает бессмертный капитан Миляга, который продолжает их по-свойски истязать и уверять, что так оно и надо для блага Отечества.
Для меня ответ на один вопрос несколько неясный. Вот Чонкин, в качестве русского национального героя, он устраивает меня или нет? С одной стороны, мне с Чонкиным было бы невероятно скучно, потому что он, действительно, никаких возвышенных интересов не имеет, хочет просто жить, и чтобы от него отстали. А с другой стороны, может быть, он и есть идеальный русский человек, потому что главная его особенность это то, что он добрый. Чонкин не злой, вот это удивительно, и это самое трогательное в нем. Злые все вокруг него, и только они с Нюрой, два забитых, но неубиваемых человека, они лучатся какой-то такой, тихой добротой к миру. Поэтому они так ладят с животными, поэтому у них так родится все на огороде, поэтому они так все умеют. В общем, какая-то бесконечная трогательность в этом персонаже есть.
И вот одно пророчество, с которым я рискну высказать. Когда в России случится очередная перестройка, главным чтением станет Войнович. Именно потому, что все сбылось, и именно потому, что он посягает на главные, как выяснилось, скрепы. Свободный русский человек будет читать Войновича. Его не будет смущать, что у Войновича действительно не всегда смешной юмор и простоватый язык, его будет восхищать его отвага в ниспровержении духовных скреп. В этом смысле «Чонкин» сегодня самая опасная, самая рискованная и, в каком-то смысле, самая нужная книга.