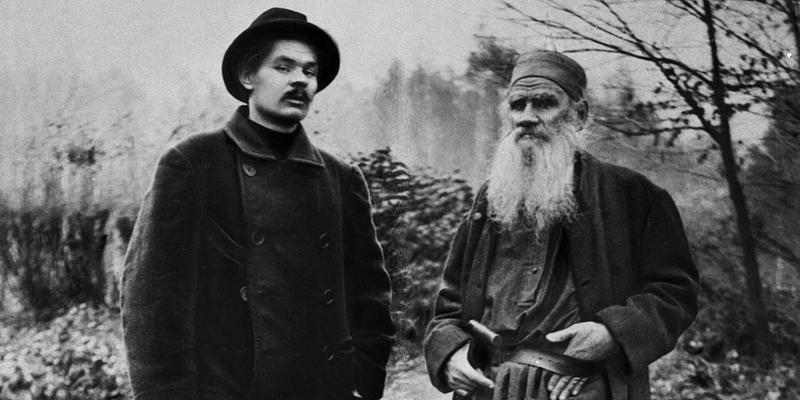Цвейг важен для понимания психологии модерна, но главным образом важно его самоубийство. Понимаете, вся его проза, даже такие выдающиеся вещи, как «Амок», далеко не так важны, мне кажется, как его отчаяние в сороковые годы. Понимаете, ведь он покончил с собой, когда уже было ясно, что фашизм обречен. Но ясно было и то, что вместе с фашизмом погибла немецкая культура, к которой он принадлежал. Потому что он принадлежал этому языку. Можно долго спорить о его национальной принадлежности. Можно долго спорить о его культурной принадлежности. Но он писал по-немецки, и он понимал, что немецкий дух погиб. После такой болезни не воскресают, не выздоравливают. То, что начнется потом, уже будет другое.
Представьте Цвейга в послевоенном мире, Цвейга, автора «Смятения чувств»; Цвейга, автора «Марии Стюарт». Ведь эпоха его умерла еще в тридцатые годы. Именно поэтому Перуц после войны ничего не написал. Все-таки катастрофа Австро-Венгрии была во многом главной катастрофой двадцатого века, и Лев Лосев мне говорил, что роман «Марш Радецкого» до некоторой степени ставит точку в культуре двадцатого века. Как это ни ужасно, потому что это как у Солженицына: у него не было необходимости писать «Октябрь шестнадцатого», потому что уже все понятно было в «Апреле семнадцатого». В некотором смысле история двадцатого века закончилась не в 1945-м, а в 1933-м. Все уже было понятно. И было понятно, что не будет воскрешения: «И воскресения не будет». По-моему, такое ощущение было.