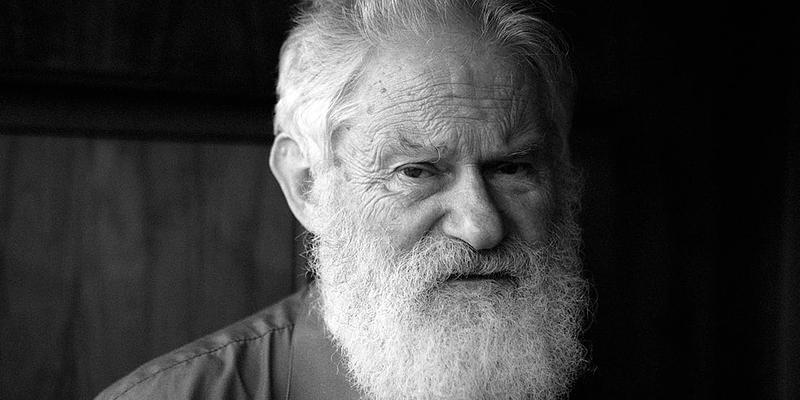«Спекторский» — это такое произведение двойственное. С одной стороны, это вершина творчества раннего Пастернака, это верхняя нота, верхний предел того, что началось в «Сестре моей — жизни». Потому что Пастернак не остановился на «Сестре», Пастернак ранний продолжал развиваться. После этого был «Разрыв». После этого — «Темы и вариации». После этого — поэмы о Шмидте и о 1905 годе. И «Спекторский» — это высшая точка.
Но вместе с тем «Спекторский» — это и предел, это во многих отношениях произведение последнее. Оно и задумывалось как последнее. Оно — в некотором смысле пролог к собственной смерти. И после этого чудом последовало второе рождение. Это вещь итоговая. И неслучайно там сказано:
Где сердце друга?— Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то?— Наслышкой.
Да, видно, жизнь проста… Но чересчур.
И даже убедительна… Но слишком.
Это признание своего поражения, в общем. И неслучайно Пастернак поставил там пушкинский эпиграф «Были здесь ворота», имея в виду, что «Спекторский» — это своего рода «Медный всадник», это попытка осмыслить революцию. Или можно сказать иначе: это, как сформулировала Лидия Корнеевна Чуковская, «попытка переиграть Блока в мажоре». Почему Блока? Потому что «Спекторский» — это, конечно, ответ на поэму Блока «Возмездие».
Я делал однажды довольно большой разговор в Театре Фоменко, где пытался всячески разобраться с поэмой Блока «Возмездие» недописанной. И дело в том, что вся русская литература XX века пытается дописать блоковское «Возмездие». Как вся литература XIX столетия пыталась дописать «Мёртвые души», второй том, так вся литература XX пыталась дописать «Возмездие» и понять, что же всё-таки будет после того, как главный герой умрёт на груди возлюбленный, что будет с его сыном, который родится от этой прекрасной полячки.
Ну, аллюзии к «Возмездию» в «Спекторском» довольно многочисленные, и прежде всего это фамилия главного героя, потому что Спекторский — это главный ученик и автор биографии блоковского отца, его сподвижник, поэтому о Спекторском Пастернак знает. Это не то что человек-спектр, а это именно сознательная отсылка к конкретному персонажу, к наследнику Блока.
В чём сюжет «Спекторского»? Там сюжет довольно тёмен. Помните, как писал Валентин Катаев: «туманный «спекторский» сюжет». Но особенность его в том, что вещь пошла, как всегда бывает у гениев, не по тому пути, который Пастернак предполагал.
Сначала «Спекторский» был историей о встрече главного героя, студента Сергея Спекторского, и о романе с Ольгой Бухтеевой. Роман, который начался у него в четырнадцатом году. Ну, она его соблазнила, конечно. А дальше, в финале романа (это роман в стихах, по авторскому определению) Спекторский уже после революции, уже став бывшим, уже став деклассированным элементом. Он встречается с Бухтеевой, которая за это время стала комиссаршей. Вот это одна сюжетная линия, которая собственно в повести этой и доминирует.
А есть вторая история, история в третьей главе, когда в жизнь Пастернака довольно властно ворвалась Цветаева и эпистолярный и стихотворный роман с ней. И тогда появилась Мария Ильина — как бы вторая женщина, второй вариант судьбы. В общем, для Пастернака революция приемлема и во всяком случае им отражена только в одном виде, в одной версии. Вот это чрезвычайно интересно. Ведь каждый описывает революцию так, как он её понимает, как он её может воспринять. Пастернак может воспринять её, полюбить её, если угодно, только в одном варианте: если это история о поруганной женственности, которая мстит за себя.
Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слёзы, звон
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамён.
Ну, крик девочки в чулане — это, конечно, референция из главы «У Тихона» из «Бесов», которая была напечатана только в начале двадцатых. Она же лежала в архиве Достоевского и только после революции в России увидела свет. Это значит, что Катков её не стал печатать. Это история о том, как девочку доводит до самоубийства (сначала растлевает, потом он её оклеветал) Ставрогин. Это собственно исповедь Ставрогина. И вот эта повесившаяся девочка, которая является ему и грозит кулачком,— это для Пастернака образ революции. Он может принять революцию только как месть за поруганную женственность.
Ну, разные были версии революции. Понимаете, Хлебников принимал революцию как месть природы человеку:
Я вижу конские свободы
И равноправие коров.
Кстати говоря, Есенин тоже видел такое восстание скота, которое совпадает с восстанием крестьян, потому что и скот тоже восстаёт, и земля восстаёт. Её эксплуатировали, за её счёт жили — а теперь она свободна! А у Пастернака другая концепция: это утопия женской свободы. Кстати говоря, у Пастернака там есть довольно любопытная отсылка к Хлебникову:
Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье!
Я жил, как вы. Но отзыв предрешён:
История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.
Это, конечно, отсылка к Хлебникову, когда он предлагает, помните, погнать нагишом, босиком вот этих бар и всех эксплуататоров. Конечно, месть женщины — это тот способ принять революцию, который делает её, что ли, наиболее симпатичной. И поэтому Бухтеева произносит в финале романа монолог, обращённый к Спекторскому, в котором обвиняет его, говорит:
«Вы вспомнили рождественских застольцев?..
Изламываясь радугой стыда,
Гремел вопрос. Я дочь народовольцев.
Вы этого не поняли тогда?»
Простите, откуда он должен был это понять? С какой стати? Ведь, вообще-то говоря, в первой главе «Спекторского» Ольга Бухтеева соблазняет студента при абсолютном попустительстве мужа, который говорит:
Мы не мещане, дача общий кров.
Напрасно вы волнуетесь, Серёжа.
После этого всего она ему вдруг начинает в 1922 году предъявлять безумные претензии: «Ах, ты мною пользовался! Ах, ты меня эксплуатировал! Ах, ты не разглядел, что я дочь народовольца!» — «Прости, пожалуйста, с какой стати я должен был это разглядеть, если инициатива в этих отношениях исходила от тебя?»
Но для Пастернака революция в том, что Россия, вечно унижаемая, не понимаемая и так далее, Россия-женщина восстала и за себя отомстила. Это, в общем, довольно спорная трактовка. Но обратите внимание, что у Багрицкого в поэме «Февраль» ведь та же самая история, когда герой вламывается в бордель и видит свою любовь, перед которой он робел. Эту любовь насилует белогвардеец. Тут же он разгоняет белогвардейцев. И дальше: «О господи, что же происходит?» — он падает к ней в постель, говоря:
Может быть, моё ночное семя
Оплодотворит твою пустыню.
Ну конечно! Сейчас вот оно её оплодотворит. «Белогвардейцы не могли, а я вот пришёл и оплодотворю». Но здесь есть очень точная у самого Пастернака концепция, которая в стихотворении «Весеннею порою льда» у него названа напрямую:
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.
Революция — это акт ревности. «Потому что вот до этого с вами были не те, с вами были другие. А теперь пришли мы, и мы настоящие, у нас есть на вас право». Как он воспринимал свой союз с Зинаидой Николаевной, которая до этого была жертвой растлителя, жертвой своего кузена, ну, жертвой Комаровского, условно говоря, как в «Докторе Живаго», а вот теперь пришёл Юра — и Россия досталась тому, кому надо, как в «Докторе Живаго». Или в его случае пришёл он сам — и как бы происходит такой акт социальной реабилитации.
Это перебрасывает отчасти мост от «Спекторского» к «Доктору Живаго», конечно. Потому что в «Докторе Живаго» ведь в чём главная проблема? Революция затеяна не для того, чтобы в России восстановилась свобода, свободы не бывает. Революция затеяна для того, чтобы на три месяца или на сколько-то, полгода в общей сложности у них набегает совместной жизни, чтобы в Варыкино Лара досталась Юре. Вот ради этого революция. И это цель — то есть чтобы Россия на короткое время досталась поэту. Потом её опять похитит пошляк, она всё равно потом будет в руках у Комаровского, но в период революционной бучи, пусть и на короткий, крошечный миг она оказалась с ним. И этого хватило, чтобы он написал лучшие свои стихи. А какая ещё есть цель у мироздания?
Революция — это месть России, которую слишком долго насиловали. И этот мотив инцестиозного насилия появляется. Россию растлевали — и вот теперь она мстит. Бухтеева предстаёт комиссаршей. Кстати говоря, в её взгляде появляется там что-то неожиданно азиатское, чего изначально совершенно не было. «А взгляд, косой, лукавый взгляд бурятки»,— сказано там, да? Что в этом взгляде читалась мысль: «Мой друг, как ты плюгав!». Почему она смотрит на него косым, лукавым глазом бурятки? Как-то она вот обурятилась за время революционного восстания. Дело в том, что это новая элита России, которая играла в адюльтеры, которая жонглировала сердцами до начала, простите, сюжета «Спекторского». Теперь эта женщина предстаёт женщиной-комиссаром.
И вот здесь глубочайшее прозрение Пастернака. Ну, это Лариса Рейснер. Пастернак посвятил памяти её одно из лучших своих стихотворений двадцатых годов. Когда он искал псевдоним для слова «обаяние», то этим именем было бы имя Ларисы Рейснер. Конечно, Рейснер — это самый удивительный, наверное, кульбит, который могла только выкинуть женщина. Издательница журнала «Рудин», любовница Гумилёва, не встревавшая, кстати… Она в одном из последних писем писала: «Если бы он, калмык, монгол,— так она его дразнила,— желтолицый, разноглазый, появился бы сейчас передо мной и после всего, что он со мной сделал, сказал бы «пойдём», я бы босиком пошла за ним на край света». Вот что такое поэт — добавим мы от себя.
Лариса Рейснер, которая была такой женщиной-декаденткой, сочинительницей не очень хороших стихов и совсем уж никакой прозы, она после революции предстала женщиной-комиссаром, прототипом главной героини в абсолютно символистской драме Леонида… Прости господи, какого Леонида Андреева? Всеволода Вишневского. Хотя это чистый Леонид Андреев, оптимистическая трагедия. «И вот вы, пришедшие сюда для забавы и смеха, смотрите и слушайте. Вот пройдёт перед вами жизнь Женщины-комиссара с её тёмным началом и тёмным концом». В общем, это всё такие люди — львы, орлы, куропатки символистского театра.
И вот Лариса Рейснер, женщина. Она предстаёт женой Раскольникова Фёдора. Впоследствии, видимо, есть такая версия, что возлюбленной Троцкого. Впоследствии — возлюбленной Радека. Лариса много сделала для личной помощи Ахматовой. Кстати, это она ей прислала продукты с запиской, с цитатой из Мандельштама.
Так вот, появление этого образа мстящей, триумфальной, победительной, пожалуй, что и агрессивной женственности в «Спекторском» — это самое точное отражение того, что случилось с эпохой. Ведь действительно принять революцию в образе пьяного матроса (а это и есть такое поколение Пастернака) довольно затруднительно. А принять её в виде восставшего пролетария — тоже не ахти. А вот принять её в виде женщины, которая пришла и мстит за многовековое унижение,— да, это можно.
Что касается жанровых особенностей «Спекторского». Это роман в стихах. Я, кстати, очень хорошо помню, как мы с матерью купили его за очень большие по тем временам деньги — за 20 рублей — у арбатского букиниста. Первое полное издание 1933-го, дай бог памяти, года. Или 1934-го… 1933-го. Синенькую эту книжечку я очень хорошо помню. Я его тогда же и прочёл, и в значительной степени выучил наизусть, не понимая, о чём речь.
Как капли носят вести о езде,
И всю-то ночь всё цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.
Гениальная какая звукопись! Но потом я очень многое выучил оттуда наизусть благодаря «Алмазному моему венцу», потому что там Катаев много цитирует, находя, кстати говоря, литературный такой прототип этого текста в поэме Полонского «Братья» — тоже такой роман в стихах. И конечно, у Пастернака русская нарративная поэтическая традиция выведена на совершенно новый уровень. Это настоящая лирическая поэма со вступлениями, с замечательно точными формулами.
В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник,
Певица и смирившийся эсер.
И ощущение обречённости в этих строчках.. «И ведь съедят». Всё хотелось съесть. «И ведь съедят»,— подумал Серёжа. Ощущение это очень острое.
Пастернак написал, во-первых, автоэпитафию, во-вторых — замечательную метафору революции, как он её понимал. Но кроме того, это своего рода отчёт о попытке создания нового поэтического нарратива, о рассказывании истории, которая была бы при этом не скучной, за счёт удивительно богатой и твёрдой, напряжённо натянутой поэтической ткани стиха.
Ведь понимаете, какая штука? Вот Евтушенко, которого я считаю всё-таки поэтом очень крупным, вопреки всем возражениям… И сразу, кстати, стало видно всех подлецов, когда о нём стали тут же говорить. Он — такой лакмус. Евтушенко создал поэтический нарратив нового времени, потому что баллада — это способ выживания лирики в непоэтические времена.
И вот у Пастернака точно та же история. Конечно, его замечательный «Спекторский» — это способ писать стихи в непоэтическое время, понимаете, потому что есть чудовищная эпоха, которая абсолютно начисто глушит лирические голоса. В это время замолкают лирики: и Маяковский, написав «Про это» и «Юбилейное», замолкает Ахматова, Мандельштам, Ходасевич. Практически никто не может в это время, кроме обэриутов, писать лирику. А Пастернак написал сюжетную вещь. Вот это то, что Лидия Гинзбург называла «продвижением лирического материала на большие расстояния».
И в некотором смысле Пастернак тут сумел решить главную задачу литературную (формальную) XX века — создать прозопоэтический синтез — вот ту задачу, над решением которой бился Андрей Белый (иногда удачно, иногда не очень), Габриэль Гарсиа Маркес, между прочим, потому что «Осень патриарха» написана как поэма и придумана как поэма. И первым Евтушенко, кстати говоря, сказал, что эта вещь гораздо выше, чем «Сто лет одиночества», потому что плотность ткани стиховой, литературной здесь выше.
И вот Пастернак сумел предложить лирическим поэтам замечательный способ выживания. Другое дело, что не все оказались на высоте задачи. Скажем, Павел Антокольский решал эту задачу в драматической поэме — во «Франсуа Вийоне» и «Робеспьере и Горгоне». Повествование (скажем, «В переулке за Арбатом») ему не давалось, а вот драму он писал. Огромное большинство советских поэтических романов, поэтических повестей было неудачным. Это такая, в общем, соединительная ткань.
Но зато огромное большинство, скажем, повествовательных баллад Давида Самойлова, имеющих в своей основе, конечно, пятистопный ямб Пастернака… Ну, например, «Цыгановы» — это вещь, которая без «Спекторского» была бы совершенно немыслима. И сейчас, скажу я вам, сейчас тоже время нелирическое. И среди разных стратегий повествования, скажем, поэмы Марии Степановой, которые в гораздо большей степени, конечно, опираются на цветаевский опыт, но и на нарратив Пастернака тоже,— это хороший ответ. И в этом смысле её цикл «Проза Ивана Сидорова» — это, по-моему, выдающееся литературное свершение.
Что касается сегодняшнего читателя. Может ли он понимать «Спекторского»? И будет ли он его читать? Я думаю, что для подростка в 13–15 лет, который пытается выстроить свои отношения с миром, нет ничего лучшего, чем смиренная, горькая, глубоко человечная интонация «Спекторского». Мне кажется, вот так надо смотреть на мир. В этом смысле это одна из самых современных поэм и самых своевременных. Это лишний раз нам доказывает, что Пастернак — всё-таки лучший наш советчик изо всей литературы XX века.