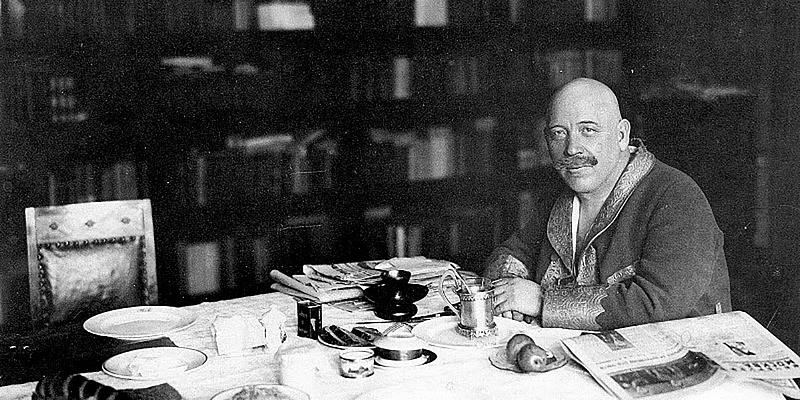Не знаю, не знаю, было ли хуже в 1953 году. Ресентимент образца 1953 года был не так силен или силен, но не у всех. У Леонова был силен, например. А вот, скажем, у Некрасова,— нет. Свежа была память о войне, понимаете? Война была недавно, поэтому паразитировать на этой теме, играть на чувствах фронтовиков, видеть в войне высшую точку истории никто не мог. Потом все-таки интеллектуальный уровень аудитории был другой, состав аудитории был другой.
Я, кстати, как-то говорил об этом с Рене Герра — человеком, который уж конечно без восторга относится к сталинизму. Но он совершенно верно заметил, что, по крайней мере, тогдашние люди еще хранили в себе какое-то наследие дореволюционной России. Как тогдашние беспризорники — беспризорники, скажем, 20-х годов — все-таки несли в себе какую-то память о дореволюционном воспитании. Точно так же, как авантюристы типа Бендера или герои Зощенко типа Мишеля Синягина все-таки мыслили в категориях Серебряного века, хотя и безмерно опошляли его. То есть качество сознания, качество образования было несколько иным.
Может быть, прав был Заболоцкий, который жене в последнюю ночь сказал, что он должен написать поэму о Сталине, ибо у Сталина есть своя трагедия: он последний человек, для которого что-то значит старая культура, для новых она уже не значит ничего. Странно, что при всем различии поэтик да и, собственно, душевного склада и убеждений Заболоцкого и Пастернака их мнения на эту тему абсолютно совпадали. Пастернак про Хрущева говорил: «Раньше нами правил безумец и убийца, а теперь дурак и свинья». И он же говорил: «Раньше, конечно, нас убивали, нас тасовали, как колоду карт, но — говорил он сыну — публично снимать штаны все-таки было не принято». Вот степень вырождения культуры, морали, взглядов была в 1953 году не такова. Поэтому получилась оттепель. О какой оттепели можно говорить сейчас — не очень мне понятно.
Понятно, что Сталин — это очень масштабное зло. Можно ли так сказать о сегодняшних российских властях, о всех их представителях? По-моему, нет. Но даже если это зло дорастет до мирового масштаба, если мы ему позволим (оно же заполняет весь предназначенный ему объем),— а я не знаю, не иссякли ли какие-то потенции, позволяющие ему возродиться. Я не очень себе представляю новую оттепель или новую, скажем, культуру. Потому что сильны, скорее, репрессивные ожидания, сильна жажда новой крови. А жажда свободы сильна у немногих. Что касается молодых людей, то среди них очень много талантливых. И среди своих школьников и студентов я вижу эту тенденцию. Но они настолько индифферентны к судьбам культуры нашей… Понимаете, я боюсь… Вот я как раз написал стихотворение об этом. Собираюсь его напечатать. Тоже не знаю, надо ли это делать. Стихотворение о том, что нам дан великий язык, но мы сделали его мертвым. Как бы ему не стать латынью, потому что носитель подкачал. Потому что латынь же тоже хотела бы, чтобы на ней объяснялись в любви, а на ней называют классификацию животных или лекарств. Потому что носитель подкачал, потому что не вижу я каких-то внутренних стимулов, каких-то светлых струй, которые питали бы будущее русское возрождение.