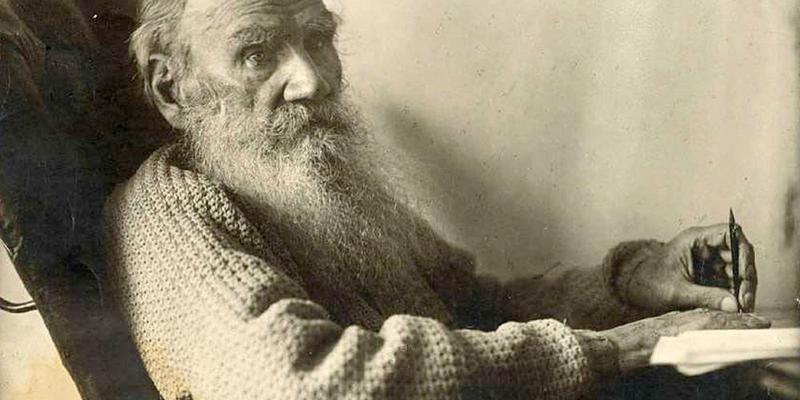Да видимо, потому, что его интересовал дядя Ваня больше остальных героев этой пьесы. Что, ему надо было называть её «Доктор Астров»? Доктор Астров — Андрей, вы не думайте о нем слишком хорошо, он такая вариация на тему доктора Львова. Именно поэтому Елена не отвечает ему взаимностью. Я не очень люблю Астрова. Астров — плоский человек. Дядя Ваня — страдалец настоящий. Вот тетя Соня — как вариант. Хотя Соня тоже не самая симпатичная там героиня.
Понимаете, я бы вам не сказал, в чем смысл пьесы «Дядя Ваня», в чем её идея. У Чехова идеи нет. У Чехова есть идея — набрать эмоцию, как правило. Вот в «Чайке» есть замечательная реплика, которую я очень люблю (собственно про что и пьеса): «старый театр надо разрушить». Там это говорится применительно к зданию старого театра, ну, к этой конструкции деревянной в саду, но это и есть смысл пьесы. Это пьеса о том, что старый театр надо разрушить. Так вот, в чеховском театре идеи нет, мыслей нет. В чеховском театре есть настроение, сумма эмоций, которую надо набрать.
И в этом смысле «Дядя Ваня» — не самая, конечно, знаменитая и даже не самая ставящаяся его пьеса, он проигрывает как-то и «Сестрам», и он в тени «Вишневого сада». И там герой, действительно вы правы, малоприятный — Войницкий Ваня, Иван. Я уж не говорю, что там и Серебряков противный, Елена противная. Там все противные, кроме Сони, которая тоже, в общем, вызывает такую некоторую… ну, дистанцированное, несколько брезгливое сострадание.
Но вот из этой жизни, из плохой жизни плохих людей в конце каким-то нечеловеческим образом, понимаете, вырастает этот потрясающий звездный слезный финал. Вот это: «Мы увидим небо в алмазах, мы отдохнем». Это чудо, которое он сделал. Из бытовой пьесы, в которой все говорят глупости, никто не понимает друг друга, все по отношению друг к другу ужасны… И даже обличительный диалог дядя Вани дышит каким-то… ну, глупостью полной, потому что он вообще человек слабый и всех обвиняющий в своих грехах, и он ничего хорошего сделать не может. И жалко его, и противно. Но из этого финала, из этой жизни жалких людей вдруг вырастает чудесный ветвистый сияющий финал. Это какое-то действительно божье чудо. Сколько все смеются над этим «небом в алмазах», и никто не может противостоять обаянию этого.
Кстати, в замечательном спектакле Марка Розовского. Я его считаю режиссером очень крупным — ну, отчасти потому, что он выпускник родного журфака. Вот у Марка Розовского этот монолог Сони шел под мощный торжественный мужской бас. И возникал какой-то контрапункт удивительный, понимаете, как под пение, под вокализ какой-то.
Понимаете, как собственно в «Турбазе «Волчьей» у Хитиловой было удивительная, ну, казалось бы, смешная, в чем-то пафосная, в чем-то наивная сцена: когда эти дети раздеваются, сбрасывают одежду, чтобы их выдержал подъемник. Там их одиннадцать, а он рассчитан на десять. И они, чтобы спасти собаку, сбрасывают рюкзак, вещи, штаны, облегчаются на снег. Такая сцена пафосная, смешная и насмешливая. И вдруг возникает мужской хор, под который они едут на этом подъемнике. И ты испытываешь какую-то невероятную гордость за человечество. Я Хитиловой, помню, сказал: «Какой жизнеутверждающий финал!» Она сказала: «Да что вы радуетесь? Они едут с одной турбазы «Волчьей» на другую». И вот это заставило меня несколько переоценить свои тогдашние впечатления. Хотя я и сейчас, должен вам сказать, считаю «Турбазу «Волчью» одним из лучших европейских фильмов. Ну, это à part.
А в «Дяде Ване» как раз, понимаете, трагизм, трагедия жизни, созданной вдруг, казалось бы, на пустом месте,— ох, это великое чувство и великое драматургическое мастерство!