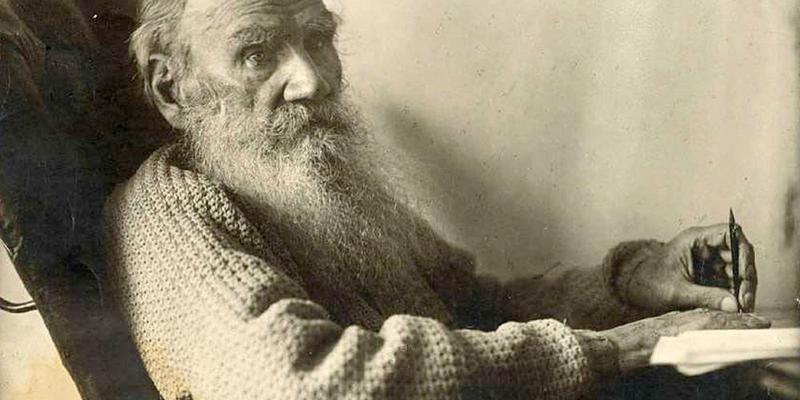На самом деле, его генезис довольно очевиден, и, конечно, я понимаю, что русскоязычному читателю было приятно везде видеть русскоязычный генезис, но Воннегут целиком растет из Марка Твена. Есть два гениальных американца, которые из Твена подчерпнули его сардонический взгляд на мир и на историю. Один — это Фолкнер, который, собственно говоря, всегда признавался, что он ученик Гекльберри Финна, последователь Гекльберри Финна.
Ну и второй — это, понятное дело, Воннегут. Дело в том, что Воннегут форму свою позаимствовал из множества фрагментарных, таких эссеистических текстов.
Афоризмами писали практически все, начиная с Ницше. Ницше ввел эту моду, потом её подхватил Розанов, Андре Жид тоже подхватил, в первых своих сочинениях такого эссеистического плана — «Новая пища» и так далее. Хотя там у него про пищу два сочинения. Первое — раннее, второе — позднее. Так вот, я имею в виду первый его текст, который не распродался, но бурю вызвал. Вот эти афоризмы, афористическое такое, строфическое письмо, которое можно увидеть у Розанова, можно у Вайнингера в «Последних словах», у Шкловского. Это главная мода XX века, потому что XX век узаконил такое, вы понимаете, фасеточное зрение. Зрение, я бы сказал, фрагментарное, осколочное. Потому что целое стало невозможно. И вот эти клочки текста, эти кванты текста, как их называли Вайль и Генис, между ними предугадываются пространства умолчания, отчаяния, такого как бы безмолвия,— того, что не говорится и не может быть высказано словами. Кстати говоря, у Тынянова есть элементы такого письма в «Смерти Вазира -Мухтара», там тоже короткие абзацы и большие паузы между частями текста, особенно это видно, конечно, в предисловии, в прологе.
Так вот, у меня есть ощущение, что Воннегут, если он формально вырос из Ницше и его афоризмов, его тоже такой сардонической насмешки и его местами очень пафосного тона, то все-таки на уровне мировоззрения, все-таки такого демократизма определенного, определенной веры в гуманистические ценности, он вырос из Марка Твена. Другое дело, что Марк Твен — он великий насмешник, и именно у Марка Твена, особенно в «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», высказаны очень ценные мысли о том, что нравственный прогресс недостижим, что просвещение само по себе может привести максимум к смягчению пыток и к гигиене. А гигиена — это та тема, которая Твена волнует очень сильно.
Но, собственно, бесполезность любого прогресса, или имущественного обогащения, или смягчения нравов гуманитарное, вот бессмысленность, тупиковость этого пути Воннегут осознал во время бомбардировки Дрездена. Понимаете, в которой он уцелел. Вот под бомбами американской авиации в конце Второй мировой войны он осознал относительность любой победы добра и разума. У меня настольная книга была лет в 10-12 «Завтрак для чемпионов», «Breakfast of Champions», в первых двух номерах «Иностранки» за 75-й год. Вот это было мое любимое чтение. Не потому, что книга была с картинками, а потому что книга была смешная, и многие цитаты из нее я до сих пор привожу. Воннегут был моим кумиром. «Бойню» я прочел позже, в «Новом мире» она печаталась, на даче все это, среди старых журналов на чердаке и для меня, конечно, было наслаждением это читать: о, какая бывает литература!
Житинский его очень любил, называл его одним из любимейших авторов, и для меня, конечно, и «Бойня», и «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер», и «Завтрак для чемпионов, или Прощай, Черный понедельник!», и в особенности «Cat's Cradle» вот, «Колыбель для кошки», это было и в английском чтении, и в русском — хотя и проигрывает в оригинале — в английском чтении это было для меня наслаждением. Помните, бокононовский этот, 17-й, что ли, том, который весь состоит из одного слова. «Вопрос: может ли человечество испытывать оптимизм, зная свою историю? Нет!» Вот это такой куртвоннегутовский взгляд: гуманизм, который терпит поражение. Просвещение, которое не верит в пользу просвещения. Безнадежный трагический оптимизм, который наиболее наглядно выражен в романе «Балаган, или Конец одиночеству!».
Кстати говоря, всякий великий текст содержит автоописание, это и есть автоописание вселенной Воннегута. «Да, я полный балаган, но больше я не одинок, когда я это читаю» — то есть в этом уродливом гротеске главное чувство, которое я испытываю — слава богу, кто-то видит мир так же. В этом смысле это великая утешительная функция Воннегута, и он, конечно, очень важный для нашего времени писатель. А мне и ранние его традиционные рассказы нравятся совершенно, там, «The Lie», for example, вот эта «Ложь» — совершенно дивная вещь, и «Сирена Титана» очень неплохой роман, традиционный фантастический. Конечно, для меня Воннегут начинается с «Бойни» — настоящий Воннегут, зрелый, но и я люблю ранние его сочинения, ничуть не уступающие.
То, что шутовство — обычная черта американского писателя — я бы не сказал, я бы сказал, нормальная черта американского писателя — это такой несколько самурайский взгляд на вещи: «Действуй, зная бесперспективность таких усилий» — так бы я сказал. То есть ничего может не получиться, но ты действуй. Это и в Чильвере этого очень много, и в Хеллере этого полно.