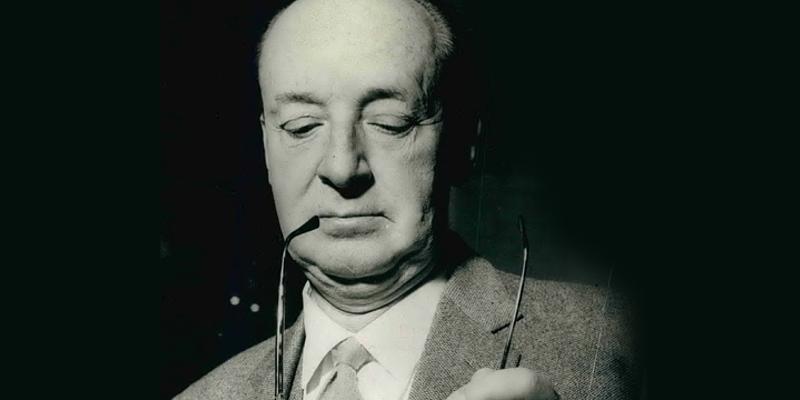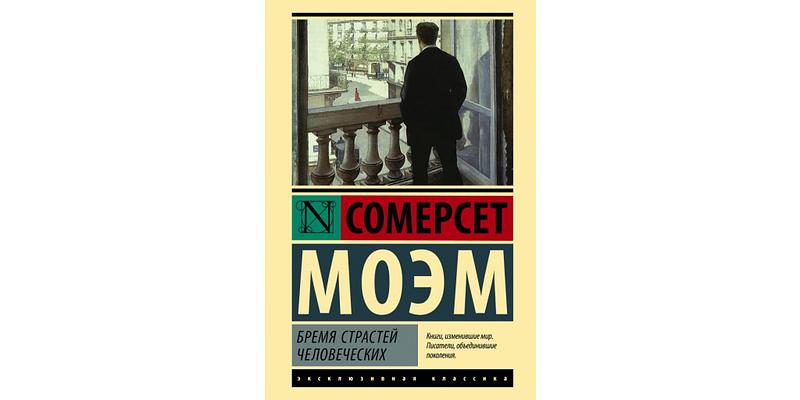У меня есть лекция о Британии в конце XIX века, она называется «Дети Диккенса». Это шесть авторов, может быть, семь, которые вышли из диккенсовского периода британской литературы. Это прежде всего такая парочка антагонистов, ортогонально совершенно подходящих к христианству, как Честертон и Уайльд. Уайльд представляется мне лучшим христианином, скажем так, более практикующим и свободным от таких крайностей честертонианских, как, например, симпатия к Муссолини (слава богу, недолгая, он не дожил все-таки, но он бы понял; у него со вкусом лучше обстояло). Это Стивенсон, это Моэм, это Голсуорси, безусловно, и это Бернард Шоу. Вот эти шестеро-семеро авторов, еще Рескина следовало бы назвать, хотя он не писатель, а теоретик… Книгу Рескина, как сейчас помню, купил я в британском букинисте и с наслаждением ее читал, потому что без Рескина не было бы никаких уайльдовских идей, не было бы никакого эстетизма, вот уж кто умел писать! Необычайно убедительно и как-то, я бы сказал, весело.
Диккенс действительно, как спектр разлагается в призме, как белый цвет разлагается на радугу, как бы распался на этих своих главных наследников. Интерес к семейной проблеме, к «мысли семейной» у него унаследовал Голсуорси, создавший один из главных романов семейного упадка в мировой литературе, а не только в британской. Интерес Диккенса к христианству — рождественскому, уютному — эту рождественскую ноту его унаследовал Честертон. Сентиментальность Диккенса и его мучительно сострадание (не только к беднякам, вообще его библейское сострадание к людям и презрение к их мучителям, к любой толпе) унаследовал Уайльд. Сюжетную технику и тему двойничества — Стивенсон. И уж, конечно, Шоу унаследовал от него такую простую, чуждую всякой рисовке, горячую и наивную симпатию к людям труда. В Шоу это есть, потому что я продолжаю настаивать на мысли Швыдкого, очень мне близкой: мы думаем, что Шоу сложный, а он очень простой, может быть, слишком простой. Он все-таки за ценности доброты и здравого смысла, которые за всеми его парадоксами слышны. Когда Толстой, цитируя самого Шоу, говорит «he has get more brains than is good for him» («у него больше мозгов, чем ему нужно») — это «more brains» никак не помешало ему быть защитником героической, настоящей Европы, быть автором великой пьесы про Жанну д'Арк. Это не помешало защищать ему простые ценности в XX веке, полном релятивизма.
Несколько сложнее объяснить генезис его симпатии к Сталину, но и на этот случай он сказал: «Может быть, я просто хочу видеть Россию менее конкурентной, более слабой». Да, вот здесь некоторый парадокс имеется. В остальном он человек добрый и простой, а «Пигмалион» вообще самая демократическая пьеса, доказывающая, что герцогиню можно сделать из любой цветочницы. Вот так мне рисуется эта британская шестерка наследников Диккенса, но мне кажется важным, что распад империи и конец викторианской эпохи, как и в России, привел к появлению такой душной теплицы, и эту теплицу ненавидели эти люди, а Уайльда она убила в конце концов, но тем не менее в ней расцвела великая литература; литература упадка — да, но при этом литература величайшего гуманизма, высочайшего милосердия.
Да, при этом нельзя не назвать, конечно, и Киплинга, который в наименьшей степени диккенсовец, но его сюжетная техника в «Сталки и компания», например, наверное, до известной степени восходит к диккенсовским детским сочинениям. Да и вообще, Киплинг ведь тоже религиозный писатель: один из лучших религиозных рассказов XX века — «Садовник», над которым я в свое время рыдал совершенно искренне.