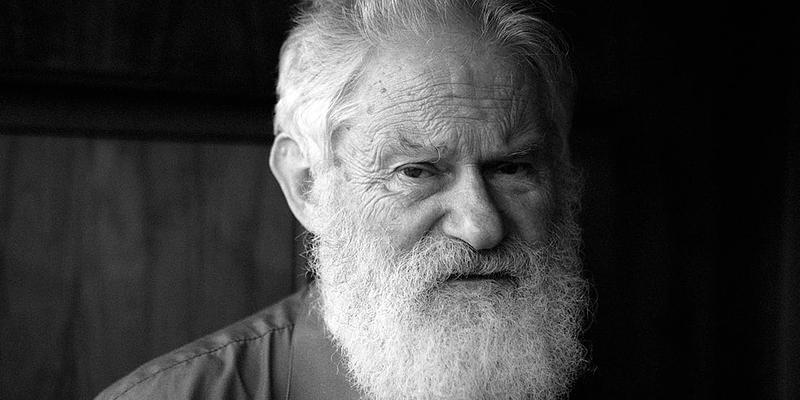Ну, можно пуститься было бы, конечно, в долгие объяснения о контекстах, о том, что вот это стихотворение «Сними ладонь с моей груди, мы провода под током» — это ситуация временного разрыва с Ивинской (потом они возобновили отношения), но я не думаю, что это только про Ивинскую. И вообще я не думаю, что здесь биографический подход уместен. «И манит страсть к разрывам» — это вообще пастернаковское кредо. У него разрывов в жизни было довольно много. Помните, сказано в «Двадцати строфах с предисловием» (это такой набросок продолжения «Спекторского»):
О, как мы молодеем, когда узнаем,
Что — горим …
Для него катастрофа — это такой нормальный фон жизни. И стремление к катастрофе, что ли, к её выходу на поверхность — оно пронизывает все его тексты. Для него худой мир всегда хуже доброй ссоры.
Что касается «страсти к разрывам». Понимаете, я тут уже говорил о том, что цепляться за своё родное вонючее — это признак трусости и слабости. Пастернак любил рвать с людьми. И он никогда не боялся, кстати говоря, что он останется в одиночестве. Больше того — он любил рвать с самим собой, с предыдущим периодом своей жизни и биографии.
Понимаете, вот у него был опыт, когда, как ему казалось, он решил продолжать тенденции книги «Сестра моя — жизнь» и выдал довольно, как ему казалось, вторичный — хотя мне-то кажется, что замечательный — сборник «Темы и вариации». Он всегда считал, что это высевки, отсевки и опилки. Он не любил в себе эпигонства (хотя эпигонства никакого не было), ему ситуация самоповтора была мучительнее всего. Поэтому, когда мы читаем Пастернака, мы иногда поражаемся детской наивности и какой-то, слушайте, ну плохости того, что он делает в это время, поражаемся какой-то неумелости детской.
Вот Пастернак после «Доктора Живаго» (романа, который всё-таки вершина его прозы) пишет драму «Слепая красавица» — и это такое беспомощное произведение! Или вот Пастернак в 1936 году пытается научиться писать короткой строкой, научиться писать более современно и динамично, и пишет:
Я понял: всё живо.
Векам не пропасть,
И жизнь без поживы —
Достойная часть.
И смех у завалин,
И мысль от сохи,
И Ленин, и Сталин,
И эти стихи.
Ну, ужас какой-то! Сам он говорил: «Пишу чёрт знает как». Вторая часть диптиха «Художники». Но, простите, ведь из этих опусов выросла гениальная «Сказка»:
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.
Из этих же опусов выросло «Свидание». То есть из экспериментов с короткой строкой и современной лексикой выросла великая лирика «Доктора Живаго». Я уж не говорю о том, что и переводы Бараташвили, тоже великие.
Поэтому, понимаете, не надо бояться начинать с нуля, с наивности, с абсолютной беспомощности. И «страсть к разрывам» — это в общем хорошая вещь. То есть любой ценой длить отношения — ну, как говорят, «ради детей» или «ради семьи» — это довольно гибельная практика. Одиночество — это мрачная вещь, конечно. И никому я не пожелаю, особенно после известного возраста (ну, после тридцати, скажем), как-то начинать жизнь с нуля. Это очень трудно, потому что уже хрустит коренной зуб, который вырываешь, и как-то жизнь вся идёт наискосок, наискось летит куда-то в пропасть. Но, с другой стороны, не надо бояться иногда этого одиночества, этой переоценки, потому что это такой всё-таки способ развития.
Понимаете, ведь «страсть к разрывам», когда она манила Пастернака,— жестоко это сказать, но это был инструмент его самопознания и его творческого роста. Тем, с кем он порывал, было несладко. Это касалось и Маяковского, с которым он порвал дружбу. Это касалось и Ивинской, с которой он разорвал любовь (в какой-то момент потом они сошлись опять). Касалось это и Зинаиды Николаевны. То есть люди, которых Пастернак отбрасывал на своём пути… Ну, самый трагический случай — наверное, всё-таки Евгения Лурье, его первая жена, Евгения Пастернак. Люди, которых он отбрасывал, они проклинали его. И он считал себя виноватым. Но, с другой стороны, если всю жизнь цепляться (опять, ещё раз говорю) за то, что есть — ну, это просто путь к смерти, путь к такому загниванию заживо. Поэтому вот эта «страсть к разрывам», о которой он говорит, она, мне кажется, могла бы многим сослужить добрую службу.