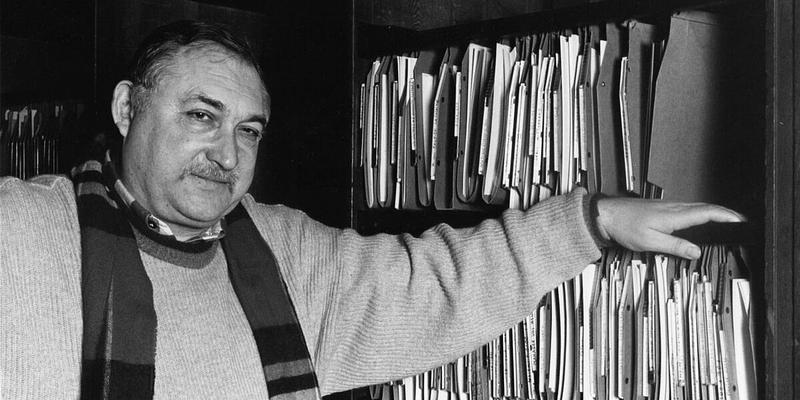Роман гениальный. Когда мы с Еленой Михайловной Стишовой — любимым моим критиком и, рискну сказать, социологом от культуры,— разбирали «Место». В чём собственно его отличие от шестидесятнической прозы? В прозе шестидесятников царствовала эйфория, а в кинематографе шестидесятых (более глубоком, поскольку он имеет дело с реальностью как она есть), главная, доминирующая интонация — это растерянность. И вот мы пришли к выводу оба: чем ниже человек находился тогда, в шестидесятые, на социальной лестнице, тем меньше эта эйфория была ему свойственна. Она была свойственна интеллигенции, студенчеству, относительно благополучным москвичам и питерцам, состоятельным людям и, в принципе, людям законопослушным. А вот новочеркасским бунтарям или работникам, рабочим тракторного завода в Харькове, когда там выступал Окуджава, то поэтам кричали «Где масло?», их прерывали,— этим людям эйфория не была свойственна ни в какой степени. Вообще, при Хрущёве более или менее хорошо себя чувствовала только творческая интеллигенция, и то недолго — до 63-го года, в 58-м был пароксизм реакции, в 63-м. Эпоха Хрущёва хороша была только тем, что выпускали больше, чем сажали.
И вот поэтому роман Горенштейна «Место» — о человеке, который находится очень низко в социальной иерархии,— он многие оттепельные штампы деконструирует, разрушает. Там сказано совершенно отчётливо, что в эту дыру, в этот идеологический вакуум, образовавшийся после частичного обрушения коммунистического мифа, хлынули очень многие болезнетворные микробы, прежде всего национализм. И Горенштейн, описывая свои скитания по Москве шестидесятых годов, по её подпольным кружкам, по её общежитиям, по квартирам девушек, которые ему достаются, он очень точно показывает, что ощущение националистского, националистического реванша было очень близко; что действительно именно в шестидесятые годы на относительно опустевшем месте официальной идеологии начала действовать так называемая «Русская партия», которая очень надеялась, что власть ею воспользуется и установит здесь такой полуфашистский режим. Вот Сергей Павлов, такой комсомольский секретарь, румяный комсомольский вождь, журнал «Молодая гвардия», впоследствии созданный «Наш современник», издательство «Современник» и так далее — вся эта публика представляла собой очень точно описанную Горенштейном опасность националистического реванша, если угодно, зародыш русского фашизма.
Кроме того, вот этот Гоша Цвибишев — это замечательный такой советский подпольный человек, в котором есть очень многие черты Горенштейна. Но Горенштейн написал это не для того, чтобы воспеть подпольного типа, а для того, чтобы выбросить его из себя. Этот роман, конечно, аутотерапия. Горенштейн чувствовал в себе Цвибишева — мстительного, цепкого, цепляющегося за ступеньки, лишь бы влезть на место среди живых. И мне кажется, что этот роман — это именно акт самоисцеления, аутотерапия. Так часто получается, что именно такая книга становится лучшей.