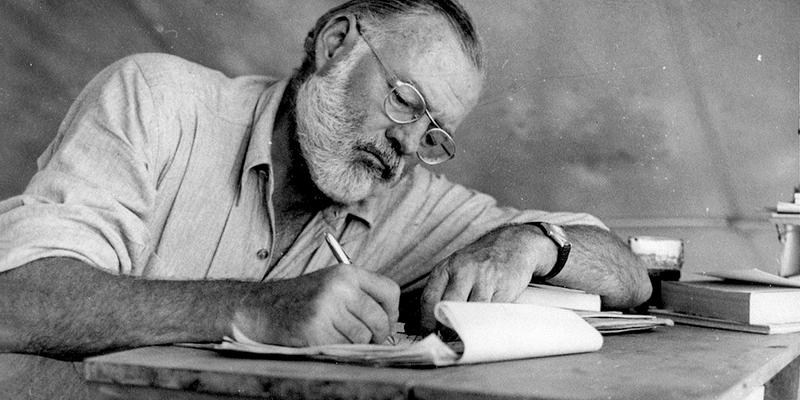«Как нравился Хемингуэй // На фоне ленинских идей»,— как сказал об этом Кушнер. Я никогда не был фанатом романов Хемингуэя. Мне всегда нравился более или менее только «По ком звонит колокол» («For Whom the Bell Tolls»). У меня довольно сложное отношение к его рассказам. Я люблю только самые ранние, в частности «Индейский посёлок», и вообще всё, что про Ника Адамса. А такие рассказы, типа «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» или «Снега Килиманджаро», где уже приём начинает, мне кажется, просто слишком себя наглядно демонстрировать,— такие сочинения уже мне никогда не нравились и казались несколько пижонскими.
Хемингуэй — это как раз то, что всегда приписывали Набокову. Они же ровесники. Была такая точка зрения, что «Лолита» — это роман о растлении молодой и наивной американской культуры европейской цивилизацией. Это совсем не так. И «Лолита», как я много раз пытался показать, роман на русскую тему.
А вот что касается Хемингуэя, то это действительно отчёт о романе Америки с европейской культурой, причём культурой модернистской. Хемингуэй по природе своей был такой же человек, как и Скотт Фицджеральд, и как, наверное, Шервуд Андерсон, у которого он взял больше всего. Я просто, честно говоря, считаю, что Шервуд Андерсон, если не брать его роман «В ногу!», а, например, его сборники «Уайнсбург, Огайо» или «Триумф яйца», был писателем-то, в общем, классом повыше, так мне кажется. И в таком рассказе, например, как «Paper Pills» (вот эти знаменитые «Бумажные шарики», на которых мы когда-то с Веллером так друг друга опознали, это оказался наш общий любимый текст), конечно, он там просто гораздо экономичнее, ёмче и талантливее пользуется тем самым пресловутым подтекстом.
Хемингуэй — это здоровый, в принципе, хотя, конечно, и с суицидными наклонностями, и с не очень приятным происхождением, и со многими наследственными заболеваниями, но всё-таки это здоровый нормальный американец, который в какой-то момент увлёкся идеями европейского модерна и, боюсь, оказался ими отравлен навсегда. Не то что эти идеи плохи, они сами по себе прекрасны, но попытка привить их к американскому образу жизни и американским ценностям оказалась внутренне очень конфликтной, внутренне очень травматичной.
Хемингуэй же погиб, как мне представляется, именно из-за конфликта своего абсолютно здорового представления о жизненном успехе, своих достаточно американских и, я бы даже сказал, достаточно голливудских героев и целей и такой, в общем, европейской депрессии, я бы даже сказал — европейского депресняка. Потому что вот этот мачо, одержимый, с одной стороны, беспрерывной самореализацией, он ставит себе всё новые и новые задачи — и, в общем, добивается новых высот, вплоть до Нобелевской премии, и всё у него так хорошо.
И при этом он внушил себе, что победитель никогда не получает ничего, что жизнь всегда трагична, что мировоззрение трагично, и выбирает себе таких сложных, по-европейски изломанных женщин (может быть, кроме последней, которая была единственной абсолютно здоровой женщиной в его жизни). Это как бы счастливец, который всё время пытается быть несчастным; герой, который всё время в некотором смысле навязывает себе трагедию.
Как раз конфликт американских и европейских представлений о прозе в случае Хемингуэя, по-моему, наиболее нагляден. И именно поэтому, мне кажется, у него так мало удачных романов. То есть попытка написать европейский роман и при этом зарядить его американскими ценностями — это всегда приводит к некоторому моветону. Мне кажется, что самый неудачный пример — это, конечно, «Across the River and into the Trees» вот этот знаменитый, «За рекой в тени деревьев», который по-русски звучит гораздо мелодичнее. И «Острова в океане» вот эти, «Islands in the Stream», они мне представляются гораздо более слабым произведением, чем нам казалось при первом прочтении. И «Праздник, который всегда с тобой», вот этот «Portable Celebration» [«A Moveable Feast»], тоже, мне кажется, знаете, какой-то совершенно неуклюжей попыткой здорового нормального парня писать европейскую изломанную модернистскую прозу.
Вот где он действительно велик — так в рассказах о Нике Адамсе, где американский ребёнок познаёт тоже страшный, тоже чрезвычайно интересный, тоже в некотором смысле больной мир вокруг себя. Но там другой конфликт. У Хемингуэя, как у всякого надломленного человека, феноменальное чутьё на дисгармонию. Вот он понимает, что Америка — это страна, которая, как палимпсест, живёт поверх начисто переписанной чужой истории и культуры. Вот были здесь индейцы, они фактически истреблены — и надо что-то делать с этим прошлым. Как эта новая цивилизация с ней соотносится? Индейцы как бы вытеснены в американское подсознание. Об этом собственно Матвеева (именно по следам знакомства с ранним Хемингуэем) написала замечательную поэму «Выселение из вселенной».
Вот они как бы выселены, вытеснены. И эти индейские посёлки — это напоминание об архаических, родовых, по-своему жестоких, по-своему прекрасных ценностях. Вот это настоящая американская проза. Помните, там, где Ник Адамс присутствует при самоубийстве индейца, который перерезал себе горло, потому что не мог вынести страданий своей рожающей жены. Вот там действительно Ник, опустив пальцы в рассветную розовую воду, чувствует, что он не умрёт никогда. Удивительный финал, который просто до слёз меня доводил, до какой-то сладкой дрожи в детстве! Да, это работает, конечно.
Но дело в том, что после этих рассказов, как мне кажется, Хемингуэй написал совершенно выморочную и искусственную книгу о потерянном поколении — вот эту «Фиесту» (она же «И восходит солнце»). Потому что вот в ней я совершенно не могу поверить ни в трагедию этого героя, ни в бред, которая, в общем, такая святая, а при этом и шлюха; и в то, что за постоянными разъездами, едой и питьём стоят какие-то дикие страдания потерянного поколения; и вот эта метафора насчёт того, что у героя отсутствует член, поэтому он не способен ни к общению, ни к совокуплению, ни к любви. Всё это мне кажется недостоверным, скорее смешным и как-то очень претенциозно написанным.
Вот лучшее, что написал Хемингуэй,— это, конечно, «По ком звонит колокол», потому что это роман о том, как человеку не к кому приткнуться, как нет правды ни за коммунистами, ни за республиканцами, ни за Америкой, ни за Европой. Это такой роман о тотальном одиночестве приличного человека в XX веке. Это хорошо, это здорово. И Генри Морган [Роберт Джордан?] — это, конечно, самый обаятельный из хемингуэевских героев, как мне представляется. Но Генри Морган ещё тем хорош, что у него есть проблема реальная: он действительно страдает, его проблема не выдуманная. Это проблема умного человека среди сектантов и дураков, которые так или иначе… каждый привязан к своей маленькой узенькой правде.
Он и написан очень хорошо. Там прекрасные диалоги. Это тот самый случай, когда Хемингуэй находится в расцвете сил и ещё не перешёл вот в этот избыточный маньеризм, когда он не злоупотребляет вот этими короткими звучными фразами, которых так много в «Островах в океане», когда есть ещё диалог самоцельный, а не просто диалог, кричащий: «Ах, какой у меня богатый подтекст!»
Честно говоря, самолюбование вот этих его трагических мужских персонажей тоже, мне кажется, во всех случаях, кроме «Колокола», достаточно искусственным, достаточно навязанным. Я не понимаю, почему я должен верить в глубокую душу и в удивительные переживания этого старого генерала в «За рекой, в тени деревьев». Совершенно мне не понятно, что такого высокого и прекрасного можно в Томасе Хадсоне найти, потому что он, по-моему, просто абсолютный эгоцентрик. И действительно он не слышит, не любит, не понимает тех, кто любит его. Но вот Генри Морган — это такой идеальный герой XX века. Он мне близок, с ним мне интересно.
Конечно, лучшее произведение Хемингуэя, как многие полагают,— это «Старик и море», потому что здесь… Понимаете, что здесь достигнуто? Американская культура — по преимуществу культура библейская. Это заново переписанная и глубоко наивно воспринятая Библия. И Америка всегда моделировала себя по Библии, строила себя по библейским канонам. Это касалось и литературы, и судов, и сутяжничества, и стукачества — ну, всей американской жизни в целом. Такая она немножко ветхозаветная, конечно, потому что всё новозаветное там досталось разнообразным сектам. Но в основе своей американская фермерская жизнь — это жизнь, описанная у Фланнери О'Коннор, у которой Иисус Христос — это перемещённое лицо (отсылаясь к тому же рассказу). Это такая ветхозаветная жизнь.
И, конечно, «Старик и море» — это по-американски глубоко ветхозаветная вещь, полная ветхозаветной символики, такое сочетание Ионы и Иова в одном тексте. Это история об Ионе во чреве китовом и об Иове, который всего лишился, но сохранил достоинство. Это такая библейская по сути вещь и о природе писательства, и о природе Бога, и о том, что вся жизнь — это жестокое противостояние. И мне очень понравилось то, что в этом тексте победитель как раз получает всё, потому что старик одержал победу. Эта победа самоценна. Все эти несчастные мачо недостоверные, а старик Сантьяго достоверен, потому что он победитель, он жмёт до последнего. Помните, в сцене, когда он в этом пережимании рука на руку, кулак на кулак (армрестлинг такой кубинский), когда у него кровь выступает из-под ногтей? Но он победил всё-таки, через трое суток положил соперника. Это жестокая история, но здесь Хемингуэй равен себе. И этот библейский пафос у него хорошо получался. А вот там, где он пробует играть в модернизм — там, по-моему, не получался.
Понимаете, в американской истории конфликт Америки и Европы представлен нагляднее всего в творчестве двух авторов: Хемингуэй и Фолкнер. Оба друг друга терпеть не могли, находились в переписке, между ними случались недоразумения. Хемингуэй страшно по-мачистски обиделся, что Фолкнер обвинил его в трусости. Фолкнер сказал: «Да я не то имею в виду, там недостаток последовательности в искусстве». Интересно было бы посмотреть на их драку, потому что профессиональный боксёр Хемингуэй против такого опытного наездника, маленького сухого ловкача Фолкнера, я думаю, недолго пропыхтел бы, потому что Фолкнер был гораздо более злой. Мне кажется, что интересно было бы посмотреть на их соревнование в алкоголе, кто кого бы перепил. Тоже, мне кажется, Фолкнер взял бы верх.
Вот тут, понимаете, в чём проблема? Это два случая, когда американскому здоровью сделана европейская модернистская прививка. В случае Хемингуэя здоровый человек пытается быть красиво больным, эстетически привлекательным больным — и не получается, и кончает с собой. А вот в случае Фолкнера изначально больной, спивающийся типичный человек модерна, человек Юга, в отличие от Хемингуэя… А на Юге, вы знаете, южная готика, южные страсти, инцесты, драмы из-за поражения. Вот как раз Фолкнер сумел свою болезнь с помощью европейского модерна если и не вылечить, то по крайней мере научиться с ней жить.
И если здоровый Хемингуэй всю жизнь пытался быть больным и в конце концов себя уморил, то больной Фолкнер всю жизнь пытался быть здоровым: сотрудничал в Голливуде, дружил с Рейганом — в общем, как-то пытался институциализироваться; покупал ферму, разводил лошадей. В общем, получилось, что его способ как-то более, что ли, здоров, более рационален, если угодно. То есть больной, пытающийся быть здоровым, имеет лучшие шансы, чем наоборот.
При этом интересно, что выросли они оба из Шервуда Андерсона, конечно. Но просто Фолкнер, как мне кажется, более гармоничный, что ли, случай, более ясный; человек, который своей болезни не боится, который её сознаёт и который творит так не потому, что так его научили в Европе, а потому, что это его единственный случай — кривой, косой, неправильный — его способ выразить свою душевную болезнь.
В общем, я Фолкнера я ставлю, кстати, гораздо выше. И надо сказать, перечитываю его с гораздо большим наслаждением. Другое дело, что не всё. Другое дело, что, конечно, не «Авессалом, Авессалом!» и, скажем, не «Особняк», а «Шум и ярость», или «Когда я умирала», или «Святилище», или «Свет в августе» — вот здесь. Потому что если для Хемингуэя Америка, из которой он всё время стремится убежать,— это земля примитива, в общем, то во всяком случае для Фолкнера Америка — это страна прекрасного спасительного здоровья, масштаба пейзажей; можно вылечиться масштабом, можно вылечиться этим пространством.