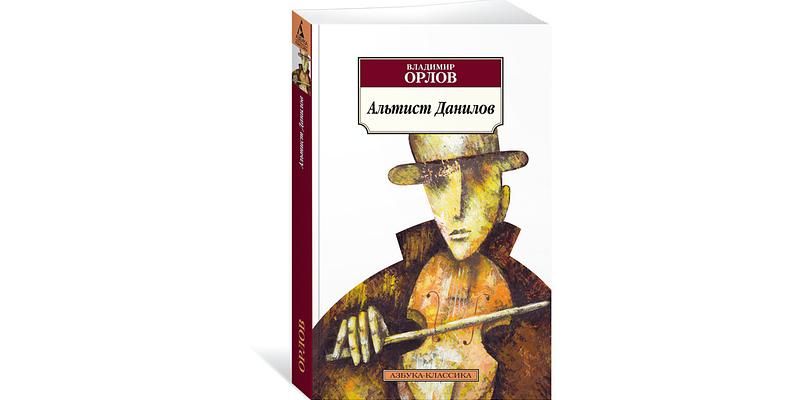Видите, Горин — не исследованный автор, не понятый, потому что он жил среди нас ещё очень недавно. Генезис его очевиден — это Брехт и Шварц. Он, конечно, прежде всего мастер театральной сказки. Потому что новеллы Горина — ну, такие, например, как замечательный совершенно «Потапов», экранизированный Абдрашитовым, или не менее удачный «Случай на фабрике» (забыл, как она называлась точно), или чудесное «Что-то синее, в полосочку…», или «Хочу харчо», или совместные монологи с Аркановым из вот этого… про рояль в кустах — всё-таки это маргинальные для него жанры. Прежде всего он прославился как сценарист и драматург, автор замечательных действительно пьес — прежде всего это, для меня во всяком случае, «Забыть Герострата», «Тот самый Мюнхгаузен», конечно.
Он афорист очень четкий, в отличие, кстати, от Шварца, который силен не афоризмом, потому что у Шварца таких расхожих цитат сравнительно немного: «У меня мать кузнец, отец прачка!»; «Всех учили, но зачем ты был первым учеником, скотина?»; «Первыми сбежали сахар и масло — удивительно нервные продукты». Но Шварц ценен (вот странное дело) не афоризмами, он ценен пафосом («Куда вы пойдете — туда я пойду. Когда вы умрете — тогда и я умру»), такой детской, андерсеновской, иногда жестокой, иногда сентиментальной, но прямотой и простотой.
Горин — это именно такой Шварц, прошедший через искушение шестидесятыми годами. Это поздний Шварц, которого мы не увидели, который не успел осуществиться. Шварц умер молодым человеком, по-моему, в 58-м году. Он умер от сердечного приступа. Долго болел все последние годы, писал мало и скупо. Но что-то мне показывает, что он написал бы гораздо больше, если бы он дожил до настоящего признания. Всё-таки он умер задолго до того, как Дракон стал идти широко по стране, задолго до того, как «Голый король» стал классикой. Он успел застать «Обыкновенное чудо», триумф «Обыкновенного чуда», но себя классиком он не только не ощущал, а он смеялся над этим. И когда ему подносили приветственный адрес: «Вы — Андерсен! Вы — наш Перро! Вы — наши братья Гримм!» — от Театра комедии акимовского, он над этим хохотал. У него никогда не было понимания, что он вообще взрослый писатель. Он всегда говорил: «Вот, буду писать прозу, буду учиться». Писал эти свои знаменитые записные книжки в амбарных книгах дрожащим почерком.
Но Шварц — это всё-таки писатель ещё по-настоящему не прошедший через самое главное разочарование. Он его предсказал. Его Ланцелот понял, что души-то после Дракона дырявые и мертвые, но этот Ланцелот как бы остановился в третьем действии. Мы все сейчас живем в третьем действии Шварца. У него в третьем действии всегда временно побеждает зло. Потом, в четвертом, происходит добро.
Вот Горин — это писатель разочаровавшийся, писатель, прошедший через искушение шестидесятыми и пришедший к самому главному выводу: раньше подкупали актеров, а теперь решили подкупить зрителей. Это писатель, драматург того театра, в котором подкуплены зрители. И поэтому, конечно, главное его произведение, как мне кажется, из поздних — это «Дом, который построил Свифт».
Горин — это такая поздняя, как бы продолженная судьба Шварца. Обратите внимание, что странная такая параллель — оба умерли совсем молодыми, в районе шестидесяти, Шварц немного до шестидесяти, Горин чуть за шестьдесят, от сердечных приступов. Все-таки обе эти смерти в начале перемен. Горин — в начале девяностых, Шварц — в конце пятидесятых. И оба раза, как мне кажется, оба последние свои годы провели в депрессии. Естественно, Шварца я не знал, но позднего Горина я знал, дважды делал с ним интервью большие. Он неплохо ко мне относился, и стихи хвалил, и вообще ему спасибо.
Я перед ним, конечно, благоговел очень сильно, несмотря на то, что они с Аркановым давно не работали, но и «Маленькие комедии большого дома», и Галка Галкина, и совместный их юмор — они делали их такими кумирами моего поколения. Хотя у обоих я больше любил серьезные вещи, скажем, «Рукописи не возвращаются», или «Кафе «Аттракцион» у Арканова, пьесы у Горина. Они казались мне не сатириками, а именно трагическими серьезными зрелыми писателями. И не случайно, что оба врачи. У них был такой медицинский, жестоко-сострадательный подход к человеку.
И вот мне кажется, что в последние свои годы Горин переживал, как и Шварц, тягчайшее разочарование: люди дожили до перемен и убедились, что эти перемены запоздали. Что они внешние, что они не затрагивают как-то внутренней сути. Eщё в 91-м году Окуджава… Мотыль об этом вспоминал, Мотыль пришел к нему в гости с огромным ананасом, чудом добытым в Москве зимней. Тогда же все было в дефиците, как вы помните. И вот Окуджава ему сказал: «Володя, боюсь, что ничего у нас не получится, что все перемены здесь — это как этот ананас зимой». Действительно, «ничего у нас не получится» — это Окуджава сказал в 91-м году, во время эйфории.
Вот боюсь, что Горин, человек большого ума и скепсиса, это понимал, и это его убило. Потому что действительно в последние годы он писал вещи чрезвычайно мрачные, и умер он, работая над пьесой о царе Соломоне. Как он мне рассказывал: «Я хочу понять притчи Экклезиаста. Скорее всего, их автором является Соломон. Что должно было случиться с человеком, написавшим «Песнь песней», чтобы он в конце жизни пришел к этому?» Экклезиаст — ведь это не имя собственное, как вы понимаете, «Экклезиаст» — название книги. И здесь Соломон вот этого экклезиастова извода, экклезиастовых притч — это другое совершенно существо, другой образ жизни и мысли. И вот, работая над этим, он умер, его эта тема волновала, как человек от счастья и расцвета приходит к отчаянию и отвращению — вот это для него была тема очень важная.