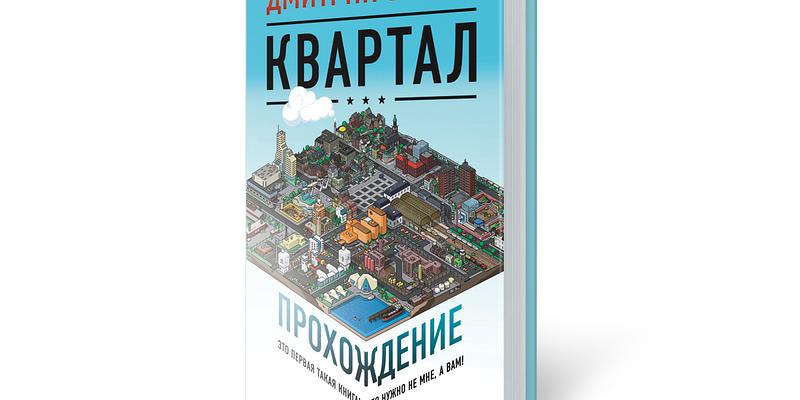Понимаете, «Постэсхатологическое» один из тех моих текстов, которой имеет совершенно отчетливые источники претекста и источники влияния. Там ну их два, один — совершенно очевидный, это «Руся». Она поднимала голову — Постой, что это?— Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег. Или еж в лесу…— А если козерог?— Какой козерог?— Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит. Божественный совершенно фрагмент, я очень его люблю.
И «Руся» вообще мой любимый рассказ. Наверное, любимый не только у Бунина. А второе это тоже на меня очень сильно тогда влиявший, вообще я когда прочел «Траву забвения» катаевскую, я долго ею просто бредил. И там приведены два стихотворения Николая Бурлюка, вот из всех Бурлюков Николай был самый талантливый. И самая страшная у него, конечно, судьба. Расстрелянный в Крыму гениальный молодой поэт. Он напечатал при жизни может быть 10 стихотворений, а уцелело их может ну 20. Но они гениальные все, вот мне кажется, что он как поэт был интереснее Хлебникова. Не буду выстраивать иерархии. Ну вот Катаев приводит в «Траве забвения» по памяти приводит и тогда же я запомнил вот это пленительное стихотворение там:
«Легким вздохом, тихим шагом через сумрак смутных дней по полям и по оврагам бедной Родины моей, каждый вечер ходит кто-то, утомленный и больной. В голубых глаза дремота веет вещей теплотой. Он в плаще ночей высоком плещет, плещет на реке, оставляя ненароком след копыта на песке».
Вот отсюда там вижу след то ли пятки, то ли копыта. То ли птичьих, то ли человечьих лап и к опушке к темной воде болота, задевая листву, раздвинув траву, иногда из лесу выходит кто-то и недвижно смотрит, как я живу. Ну такой дух родины, который вышел наружу, который явился в зримом облике, когда все кончилось, когда вот такое постэсхатологическое наступило время и последний хранитель родины как хозяин острова в Матере выходит и смотрит. Во всяком случае, генезис образа был такой. Это я имел в виду.