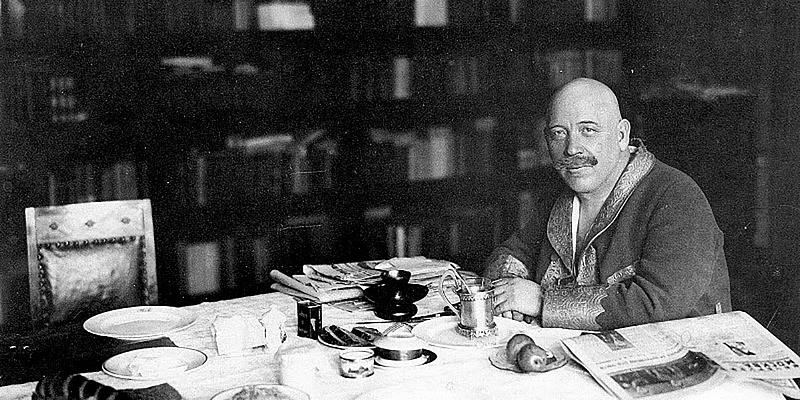Это был не совсем конфликт, это было расхождение довольно сильное, противостояние. Прочитайте, скажем, рецензию Евгения Габриловича (человека первой оттепели) на сценарий Окуджавы и Тодоровского «Верность» (людей второй оттепели), и вы увидите, в чём принципиальная разница между оттепелью первой волны (условно говоря, 1956–1958) и оттепелью второй волны (1961–1963). Кроме того, очень многие фронтовики совершенно не приняли эстрадную поэзию. Ну, так случилось, что Окуджава, будучи фронтовиком, принадлежал к этой эстрадной поэзии по времени своего дебюта. Он по-настоящему стал известен в 1957–1958 годах. И когда Николай Грибачёв написал стихотворение «Нет, мальчики!», Окуджава на одном из вечеров сказал: «Я перестал быть мальчиком на передовой в сорок первом году». Или он сказал «под Моздоком», я точно не помню. Но действительно он перестал быть мальчиком тогда ещё, и обзывать его «мальчиком» это старшое поколение не имело никакого права.
Но очень многие из старшего поколения — например, Смеляков — они Окуджаву совершенно не приняли. И Смеляков однажды наговорил Окуджаве таких резкостей, что Светлов, при котором это было, в доме которого это было, просто выгнал Смелякова из дому, он сказал: «Ты оскорбил моего гостя». Он говорит: «Ты меня — своего друга, комсомольского поэта — выгоняешь?» — «Да, тебя выгоняю». Сначала он ушёл, а потом — Окуджава. То есть конфликт этот был потому, как я понимаю, что очень многое, что позволяли себе эстрадные поэты, шестидесятники-поэты зрелой оттепели,— очень многое из этого могли бы себе позволить пятидесятники, но не решились, понимаете, они остались в полушаге.
Общеизвестен конфликт между Слуцким и Евтушенко, когда перед выступлением Слуцкого на собрании по Пастернаку, когда осуждали роман «Доктор Живаго», его публикацию, Евтушенко посоветовал Слуцкому не выступать или по крайней мере очень тщательно расставить акценты. Слуцкий сказал: «Не бойся! Все акценты будут расставлены». Евтушенко после этого выступления к нему демонстративно подошёл и публично вернул долг, сказав: «Не хочу тебе ни в чём быть обязан». У Льва Лосева есть довольно страшное стихотворение о том, как с этого собрания, уничтожившего, в общем, их репутации, идут Слуцкий и Мартынов — два главных оттепельных поэта. Это довольно жалкая и печальная история.
Очень многие люди первой оттепели действительно питали иллюзии насчёт сотрудничества с властью. Ну, это люди, которые составляли альманах «Литературная Москва». Им было обидно, когда их лучшие устремления были вот так поруганы в 1958 году — разгромом Венгрии, скандалом вокруг Пастернака, первым отыгрышем, когда был запрещён тот же альманах «Литературная Москва», когда Хрущёв орал на Алигер: «Вы партийная, а Соболев беспартийный, но он партийнее вас». Ну, вся эта история широко известна.
Конфликт фронтовиков и шестидесятников во многом обусловлен тем, что фронтовики не могли простить себе слишком долгой самоцензуры, не могли простить себе того, что их «загнали в стойло», как многие об этом говорили. «Вот шестидесятникам больше можно, вы живёте,— говорили,— в вегетарианские времена». Отсюда, между прочим, неприязнь Слуцкого к очень многим. Отсюда неприязнь Самойлова к большинству шестидесятников, за ничтожными исключениями. А ведь Слуцкий и Самойлов — одни из лучших в этом поколении. Были такие люди, как Михаил Луконин, поэты, начинавшие очень недурно, но в конце скатившиеся к страшному ретроградству.
Интересен здесь путь Смелякова, с которым случился такой классический стокгольмский синдром. Может быть, я про Смелякова когда-нибудь прочту лекцию, потому что смотрите, какой ужас. Это человек, который трижды сидел, который с Дунским и Фридом сидел в Инте, который насмотрелся в лагере уж такого, чего хватило бы, я думаю, ему не на одну мемуарную книгу, и довольно страшную книгу. Он в конце стал таким имперцем-державником, и больше того — начал оправдывать тиранию. Его стихотворение «Трон» про Ивана Грозного и особенно, конечно, совершенно жуткое стихотворение «Пётр и Алексей», вот это:
…по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.
Молча [властно] скачет державный гений
по стране [по земле] — из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений,
императорский твой венец.
Из конфликта Петра с Алексеем — может быть, из самого несимпатичного эпизода, с сыноубийства, о котором Горенштейн такую замечательную трагедию написал,— из этого эпизода сделать апологию державности. Такое могло случиться только с человеком, который действительно горько разочаровался в оттепели. И вот Смеляков как раз о героях оттепели писал очень жёстко:
Одна младая поэтесса,
решив блеснуть во всей красе [живя в достатке и красе],
недавно одарила прессу
полустишком-полуэссе.
Там, по-моему, Ахмадулина имеется в виду, которая пишет, как она смотрит на женщин-путейщиц, женщин — дорожных рабочих.
…хотелось кушать хлеб тот честный
и крупно молотую соль.
[В оригинале:
И кушать мирно и безвестно —
почётна маленькая роль!—
не шашлыки, а хлеб тот честный
и крупно молотую соль.]
…А я бочком и угловато [виновато]
и спотыкаясь на ходу
сквозь эти женские лопаты,
как сквозь шпицрутены, иду.
Красивое, казалось бы, стихотворение, но какая, в общем, гнусноватая позиция в нём заявлена: «Вот я-то сопереживаю рабочему классу, а вы-то смотрите на него издали — корней нет, стержня нет».
Вот эта позиция была присуща, кстати, очень многим людям поколения 40–50-х годов, дебютировавшим в это время. Они не любили шестидесятников именно за то, что им самим было недодано свободы (а может быть, и смелости). Зато другие — например, такие как Глазков — вечные аутсайдеры, они шестидесятников любили и с ними дружили. Вот такая достаточно долгая история, почти отдельная лекция, если угодно.