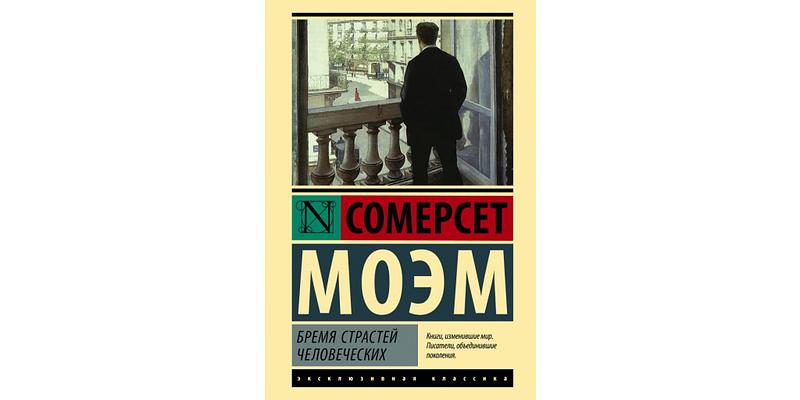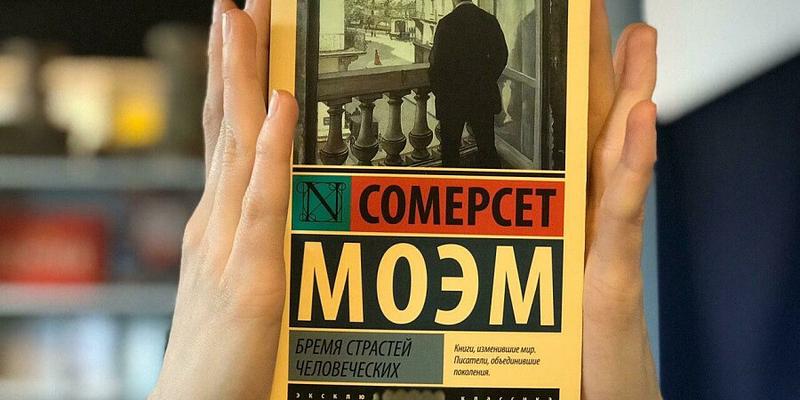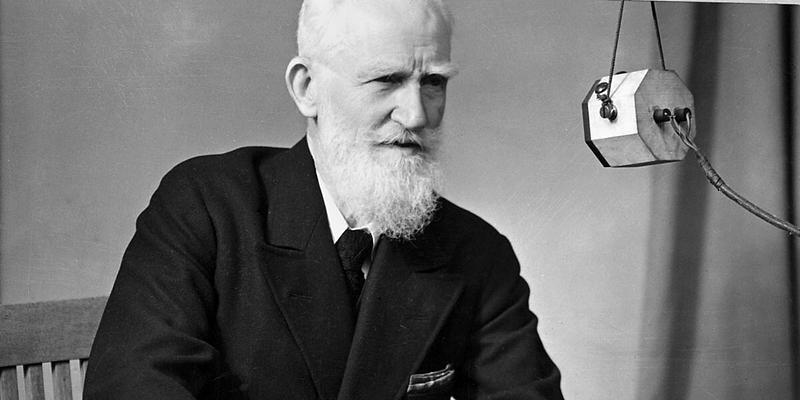Меня как-то спросили о религиозном смысле романа «Пироги и пиво». Вот простите, ради бога, но как раз религиозного смысла я в этом романе не увидел.
Но Моэм — это писатель, который в известном смысле, может быть, назван антиподом Золя. Он всю ту стихийность, всю эту силу, всю дикость не то чтобы презирает, а он её побаивается. Но он признает её величие. В этом смысле, конечно, лучший его роман — это «Moon and Sixpence» («Луна и грош»). Я к нему отношусь с величайшим пиететом, перечитываю раз в полгода, нахожу его, наверное, лучшим романом по-английски написанным в первой половине XX века, потому что, конечно, «Сага о Форсайтах» сильно уступает ему.
Понимаете ли, вот Стрикленд — это герой, конечно, отвратительный. Он и сделан отвратительным нарочно. А Дирка Струве, Дирка Стрева жалко, потому что он святой и добрый. Но он бездарный, а Стрикленд гений. И вот этот страшный пир природы, страшное пиршество тропиков — то, что нарисовано на последней фреске Стрикленда — это Моэма страшно привлекает, это его гипнотизирует.
Есть две силы, которые всю жизнь привлекали Моэма и гипнотизировали его. Я вообще против того, чтобы Моэма называть циничным, трезвым. В тех же «Пирогах и пиве» сказано: «Если вы говорите людям правду, они назовут вас циником». Неправда, нет. Конечно, это не так. Он не циник. Он скорее человек культуры, сознающий, конечно, свою слабость, некоторую вторичность перед двумя первичными дикими стихиями. Вот эти две стихии очень важны, и они в его текстах уравновешивают друг друга. Первая — это, конечно, тропики, колонии, мир странных цветущих островов, мир туземцев. Мир довольно глупый, жестокий, но все-таки неотразимо прекрасный, неотразимо влекущий, как… эта возлюбленная Стрикленда, которая остается ему верна, даже когда он оказывается прокаженным, в «Луне и гроше».
Безусловно, это мир, описанный в «Макинтоше», мир туземной силы, туземной первобытности, глупостей, примитива, но и доброты, и верности, и экзотики, и красоты. Этот мир его завораживает. Завораживает мир греховной, страшной, демонической последней фрески Стрикленда, в котором как-то угадывается, по-моему, гогеновская «Откуда мы? Куда мы идем?» — вот эта последняя картина, судя по описанию, странная, таинственная такая, мистическая. Но как бы то ни было, конечно, он перед этим миром преклоняется и этим миром восхищается.
А есть второй мир, который, если угодно, уравновешивает его, который до какой-то степени ему противопоставлен. Это мир Англии, мир английской цивилизации. Лучше всего это передано, конечно, в книжке «Эшенден»…
Это мир, конечно, английского традиционного благородства, английской самоотверженности. Это то, что в «Дюнкерке» немножко есть. Помните, когда адмирал, глядя на приплывшие эти жалкие лодчонки добровольческие, чуть ли не со слезами (вот это пошлость, конечно) говорит: «Родина!» И когда в «Эшендене» умирает англичанка старая, прожившая вне родины бог знает сколько лет и просит, чтобы у её могилы сидел один англичанин, и вопреки параличу выталкивает из легких вот это последнее слово «Англия!» и с этим словом умирает,— вот это тоже мир, который Моэма поражает.
Надо вам сказать, что Моэму не был присущ безоглядный, такой широкий патриотизм фанатический. Нет. Но все-таки он пошел же работать в британскую разведку. Все-таки он служил Родине как умел. И для него патриот, солдат, пусть даже убийца — он для него герой, если вспомнить «Непокоренную», последний рассказ об Эшендене, один из лучших.
Обратите внимание: вот я у Моэма больше всего из всего им написанного, наверное, помимо «Луны и гроша», люблю рассказ «Безволосый мексиканец» — гротескный, страшный, прелестный. Понимаете, если сравнить Эшендена с этим мексиканцем, сравнение не всегда будет в пользу Эшендена. Мы любим Эшендена (это автопортрет явный) и за его хваленое хладнокровие, и за его иронию, и за его просвещенность, за скепсис, за трезвый ум. Но иногда мы любуемся этой дикостью. И когда в финале… Обратите внимание, как математически точно построен рассказ! Перед самым финалом кульминация — танец, когда этот безволосый мексиканец уродливый танцует с женщиной. И она тает, как масло, в его руках, и он ведет её в танго. И невозможно оторваться от его хищных, грациозных, страшных движений, от его красных наманикюренных ногтей, заостренных! Это, конечно, пиршество настоящее, изобразительное! Моэм очень здорово с этим справляется. И вот эту прелесть дикости, этот триумф первобытного чувства он изображает, конечно, как никто. Он знает ему цену — и в этом его отличие.
И он любит цивилизацию. И он Англию всегда предпочтет колониям, потому что Англия — это чай, бридж, сдержанность, гольф, прямая спина, кодекс чести. Туземцы этого кодекса не знают, у них он свой. Но в отличие от Киплинга, который все-таки идет на Восток учить, Моэм в огромной степени идет на Восток учиться. И поэтому его преклонение перед Востоком, как в финале «Луны и гроша»… Помните: «Над ними густая синева небес и сколько хватает глаз тихий океан». Вот это музыка! Это симфония! И только на противоречии этих чувств рождается великая культура.