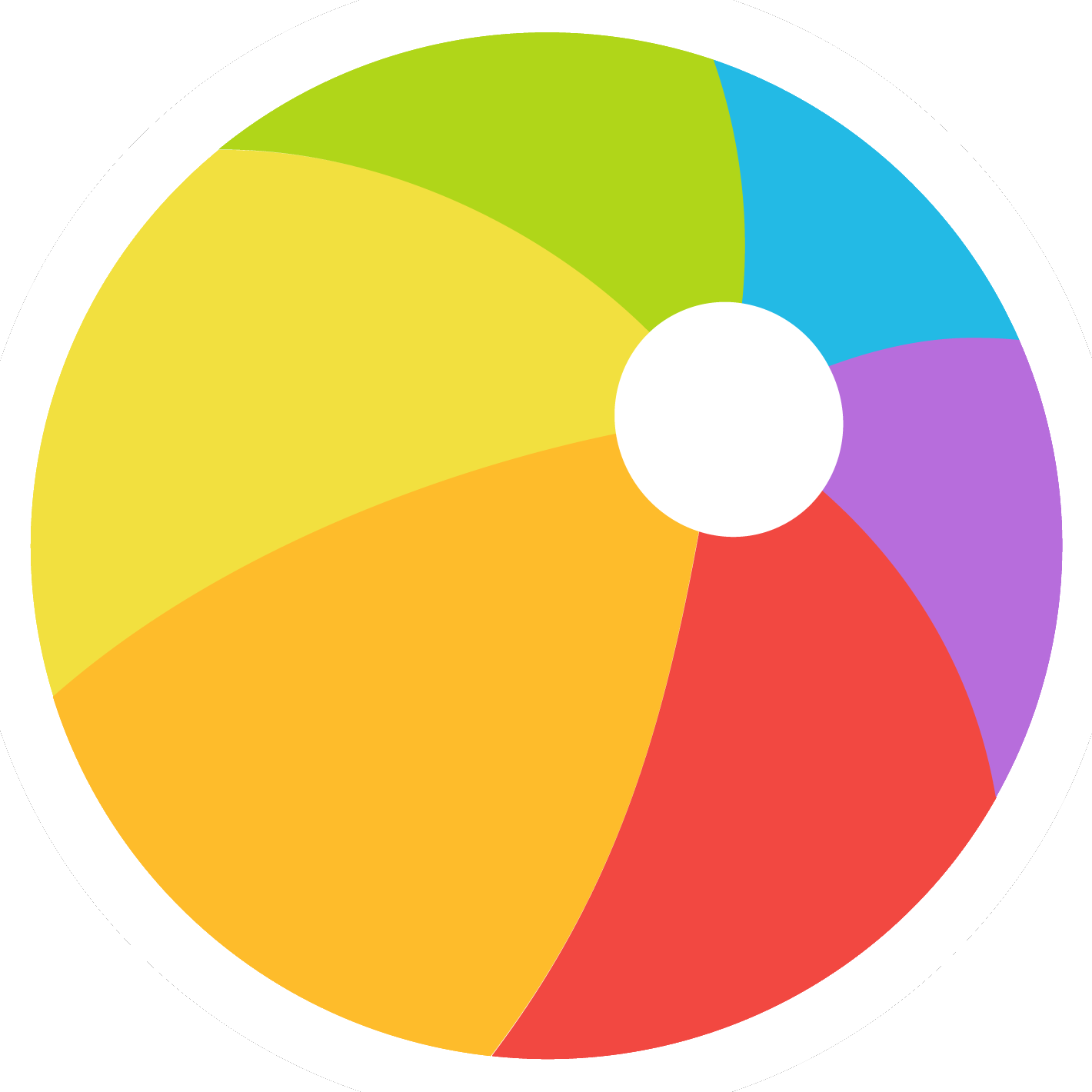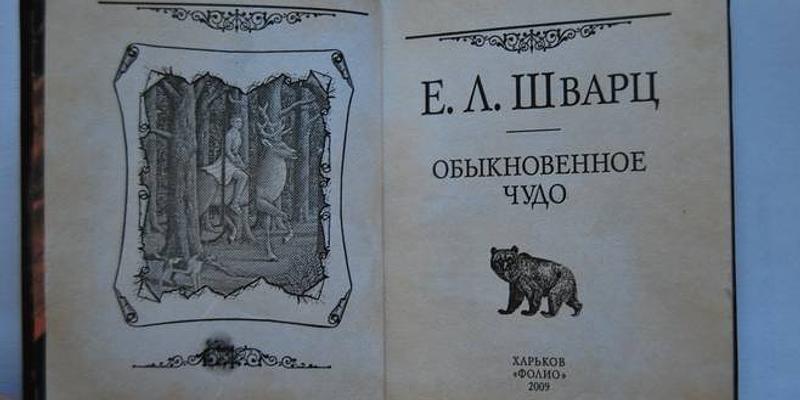О чём я хочу поговорить? Я не буду вдаваться в детали шварцевской биографии, довольно богатой. Сейчас многие спорят о степени его участия в добровольческом движении, многие люди профессионально изучают этот вопрос. Для меня это не главное.
Я знаю, что Шварц вообще принадлежал к числу людей, которые совершенно не умеют делать зло. Он просто был лишён (такое бывает иногда) от Бога, от рождения возможности солгать, струсить. Когда при нём начинали клеветать на Олейникова и разбирать его дело в конце тридцатых годов, Шварц начинал с дрожащими руками кричать, что этого не могло быть, что он не враг! Он понимал при этом прекрасно, что он сам рискует, но он не мог солгать физически.
Точно так же, когда надо было пойти добровольцем из Ленинграда, он с этими своими трясущимися руками пришёл и потребовал, закричал: «Вы не имеете права дать мне белый билет! Вы не можете мне отказать! Я должен пойти в ополчение!» — и хотя его на второй инстанции завернули, но на первой пропустили.
Точно так же, когда Гаянэ Халайджиева — первая его жена, сказала, что выйдет за него, если он бросится с моста, он немедленно бросился с моста. Вот был такой человек. Прыгнул — и, к счастью, выплыл. Действительно человек, абсолютно лишённый конформизма, абсолютно лишённый второго дна, действительно абсолютно счастливая «певчая птица».
Но я хочу поговорить об одной очень важной композиционной особенности его пьес. У Шварца есть «феномен третьего акта» (у него обычно их четыре): в третьем акте побеждает зло. Это доказательство того, что зло всегда побеждает на коротких дистанциях. И вот мы сейчас с вами живём в третьем акте Шварца, мы живём в третьем акте «Дракона». Помните, когда Ланцелот Дракона победил, уже всем всё понятно, а все продолжают жить при другом драконе — при бургомистре, при сыне бургомистра. Без этого четвёртого акта «Дракона» бы не было. Тем удивительнее, что этот четвёртый акт был написан под давлением внешних инстанций — сказали: «Пьеса антифашистская. У вас слишком легко побеждён фашизм. На самом деле ведь победа над фашизмом — надо ещё убить дракона в каждом сердце». И он приписал четвёртый акт. И этот четвёртый акт делает пьесу уже вовсе непроходимой для тех времён, сталинских.
Кстати, мне как Женя Марголит (блестящий наш киновед, с которым я имел, как всегда, чрезвычайно интересную дискуссию) сказал, что одним из могильщиков пьесы, одним из людей, написавших на неё донос, был тот самый Саргиджан, который был более известен как Бородин, как автор романа о Дмитрии Донском,— доносчик, который погубил Мандельштама. Ну да, действительно был интересный такой персонаж мерзкий. И, оказывается, именно его донос погубил «Дракона», его статья.
«Дракон» — это пьеса Шварца о том, что победа над злом пройдёт в несколько этапов (как минимум в два), и она будет обязательно, потому что слишком прочно в людях сидит страх, но потом отвращение к себе окажется сильнее страха. И вообще, чем можно победить страх? Вот шварцевский парадокс: отвращением к себе, больше ничем. «Как же позволили увести себя в тюрьму?» — кричит Ланцелот. «Это как-то так неожиданно случилось»,— ему там отвечают, помните? «Но вас же больше!» — «Да, но они же сильнее».
И в этом-то и вся история: ни одна победа над злом не может пройти в два этапа. Всегда второй этап — это победа над теми, кто этим злом уже заразился, пленился, кто встроился в его систему, кто научился с ним выживать. Более того, первая победа всегда над злом, вторая — над конформизмом. У нас дракон был убит, а вот теперь у нас задача — разобраться с ним в себе. Вот мы в этом третьем акте и живём.
Ровно та же история и в пьесе «Тень», которая всего лишь генеральная репетиция «Дракона». И, кстати говоря, ровно та же история в «Обыкновенном чуде». Помните, что происходит в «Обыкновенном чуде»? Кстати, это единственный известный мне случай, когда гениальная постановка Марка Захарова оказалась настолько конгениальной тексту, что текст перестал играть. Очень многое в тексте поглощено чудесами, роскошью актёрской игры, музыки, блистательных стихов Кима. Постановка как-то заставила текст не так мерцать ярко. Потом, когда я уже посмотрел замечательный спектакль Ивана Поповски, я весь последний акт просидел, просто обливаясь слезами, потому что сила этих диалогов, сила детской, трогательной сценической речи Шварца такова, что… Ну, там с какой-то последней прямотой всё это сделано. И нет лучшего признания в любви в мировой драматургии, чем: «Куда вы пойдёте, туда и я пойду. Когда вы умрёте, тогда и я умру». Вот это предел, предельная частота и простота.
Но и в «Обыкновенном чуде» есть третий акт, ну, во всяком случае, третья четверть пьесы, в которой Принцесса готова смириться, а Медведь её так и не поцеловал. В нашей жизни этот закон, открытый Шварцем… В нашей жизни мы всегда приходим к такому полупоражению, но ужас его таков, он так раздавливает нас, что мы преодолеваем себя и, в конце концов, героически побеждаем — и идём на какое великое свершение. Удивительно, что все пьесы Шварца — это пьесы о половинчатой победе зла.
Что мне кажется опять-таки особенно важным в том, что сделало Шварца главным драматургом эпохи? Есть известная задача — соединить девять точек без отрыва карандаша. Вот нельзя их соединить, если не взять десятую точку вне этих девяти. Этой десятой точкой чаще всего является условность, фантастика, гротеск. Нельзя написать правды, ограничиваясь средствами реализма. Я не знаю, почему это так. Может быть, так сюрреалистична действительность XX века, что невозможно написать правду, говоря только ползучую, простую правду. То, что главным драматургом XX века наряду с Брехтом… Я думаю, Шварц и Брехт — два главных революционера театра, причём Шварц гораздо глубже, нежнее, сентиментальнее и так далее. Гений условностей. Вот без сказки невозможно. И это Шварц доказал всеми своими взрослыми (как казалось ему) пьесами.
«Одна ночь», которую он, кстати говоря, довольно высоко ценил сам,— наверное, лучшая его военная пьеса, не считая «Дракона», про то, как мать за линию фронта пробивается, в осаждённый город — это абсолютная сказка. Она вроде бы реалистическая пьеса, но когда начинаешь её читать или слушать (а она есть в совершенно прекрасной аудиоверсии в Сети), то ты всё время понимаешь, что эти люди выдуманные, и Ленинград замороженный там предстаёт как сказочный замок. Но, как ни странно, эта пьеса гораздо реалистичнее, чем, вроде казалось бы, реалистический и насквозь романтический арбузовский «Мой бедный Марат», тоже о блокаде. Дело в том, что в любовный треугольник в блокаду — в это не веришь. А в перерождение людей в каких-то сказочных великанов, в каких-то удивительных сказочных домашних существ, которые помогают матери в «Одной ночи»,— в это веришь, ничего не поделаешь.
Точно такая же сказочная пьеса «Повесть о молодых супругах». Там она детдомовка, он какой-то тоже… В общем, они оба — люди без корней. И для того, чтобы им сблизиться, преодолеть вечную насторожённость… Им очень трудно приходится. Но эта пьеса не была бы возможна, если бы это не была сказка, которую рассказывают куклы и Мишка. Там Мишка говорит: «Когда я глядел на ссоры наших влюблённых, ну просто хотелось плюш с себя содрать!» Это очень здорово сделано! Шварц понял, что без сказки реалистическое произведение невозможно.
И в этом смысле, конечно, самые реалистические пьесы сороковых годов — это «Тень» и «Дракон». «Тень» — это повесть о том, как теневые технологии (сны и тени, если вы помните, находятся в двоюродном родстве) оплетают мир. И ещё пьеса о том… Вот это очень важно! Там есть такой замечательный персонаж Юлия Джули — она богема. И это как раз история о том, что во времена великих потрясений и катастроф аморализм становится довольно дорогим и довольно ходовым товаром. Когда всё тотально аморальное, самые популярные люди — это люди, которые отвергли мораль в своей повседневной практике. Это всякого рода «духовные проститутки», торгующие собой. Это могут быть продажные журналисты, это могут быть продажные шлюхи. Это именно богема, бравирующая имморализмом.
Вот здесь как раз в образе Юлии Джули очень точно изображена богема сталинской эпохи, такая развратная богема позднего Рима. И им можно, им разрешается. Не разрешается только мораль, только прямота. Вот Аннунциата — это запрещённый человек, потому что нельзя говорить правду. А вот тотальная ложь, тотальный обман, хитрость, проституция, торговля собой — это очень поощряется, это необходимо.
Кстати, к вопросу о тех, которые говорят, что при Сталине был порядок. Да никакого порядка не было! На самом деле процветала самая разнузданная, самая пошлая аморальность. Но она процветала именно потому, что она служила моральным оправданием режиму. «Мы такие людишки. С нами иначе нельзя!» — вот это быть мразью, быть слизью. И как раз Юлия Джули — это классический пример этого. Они могут даже какие-то чувства испытывать, но эти их чувства дорогого стоят. Совершенно замечательно Ким писал как раз песни к «Тени» в постановке Казакова. Там была песенка «Я — знаток теневой стороны вещей». Потому что тень — это именно знание худшего о человека.
Вот сейчас ведь Навальный очень правильно говорит, что сегодня идёт главная полемика не с теми, кто за власть и против власти, а с теми, кто верит, что что-то можно сделать, и с теми, кто говорит, что сделать нельзя ничего. Вот те, которые говорят, что сделать нельзя ничего,— это Юлия Джули. «Мы такие. Мы твари. С нами нельзя иначе». Вот это дурное мнение о человечестве (конечно, в основном на основании собственной мерзости) — это и есть самая большая мерзость. Среда, в которой действуют в тени, где подонки легитимизируют насилие, тупость, фашизм… «Ну как же с нами можно иначе? Ведь мы такие. Мы кожу с задницы пересадили на лицо и теперь пощёчины называем шлепками». Блестящая метафора! Абсолютно точно! И у чистого и доброго Шварца такая резкая вещь — это большая редкость.
Почему «Дракон» — такая гениальная пьеса? Ещё и во многом потому, что там создан обаятельный образ добра. Борис Борисович Гребенщиков мне как-то в интервью рассказывал, что святые очень редко бывают привлекательными. Вообще добро чаще всего непривлекательно, оно о внешней привлекательности не заботится. Это верно. Но Ланцелот, который через слово говорит «прелестно»,— это милое, очаровательное добро, потому что в этом добре нет тоталитарности. Оно противопоставлено тоталитарности Дракона, но само оно при этом не каменное, не железное, а оно весёлое, самоироничное. И побеждает оно с помощью простых человеческих техник: с помощью говорящего музыкального инструмента, с помощью говорящего кота. Понимаете, нельзя победить тоталитаризм железом и камнем. Его можно победить хрупкой, кричащей, жалобной человечностью. Вот она побеждает. Человек побеждает. Всё остальное бессмысленно.
И ещё я хочу сказать одну важную штуку. Конечно, Шварц не был бы знаменитым писателем и писателем бессмертным, если бы он не был просто гениальным драматургом, если бы он не знал гениально законов драматургии. Лучшая сцена, когда-либо написанная Шварцем… Я не говорю о последней сцене — объяснение принцессы с принцем: «Я покажу тебе комнату, в которой я столько плакала. Я покажу тебе три полки моих книг о медведях!» Это невероятно! Я не могу это пересказывать.
Но, конечно, самая мучительная сцена — это когда смертельно раненый, как ему кажется, Ланцелот (его выходили, но мы-то этого не знаем) произносит свой последний монолог, и среди этого последнего монолога о любви постоянно всплывает ремарка «музыкальный инструмент отвечает». Вот этот рефрен музыкального инструмента, который бессловесно отвечает умирающему,— это потрясающий диалог, конечно! Немножко похожий на пьесу Шнитке, где идёт загробный диалог альта на сцене и скрипки за сценой, если я не путаю. Ну, по-моему, у Шнитке есть такая пьеса музыкальная. У Шварца это гениально решено! Понимаете, бессловесная музыка, которая вторгается в этот диалог — тонкий ритм, рефрены, повторы мелодические,— это показывает, что он действительно великий писатель.
Кстати, у Шварца есть просто очень смешные и прелестные пьесы (например, как «Голый король»), но самые пронзительные, добрые, беззащитные и человеческие его тексты, эта живая человеческая интонация, противопоставленная ледяной лавине,— это работает безупречно. И именно поэтому Шварц с его кажущейся наивностью, с его кажущейся простотой — это главный писатель XX века, главный писатель этого времени, потому что, кроме человечности, ничего нет. Это то единственное, что можно противопоставить смерти. И поэтому Шварц оказался вечен.