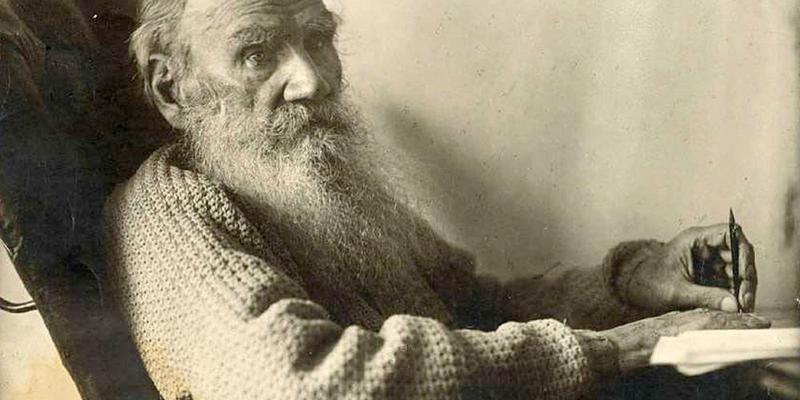Это не такая простая пьеса, как кажется. Это, во-первых, самая искренняя, самая исповедальная пьеса Чехова. Вообще самое исповедальное его произведение, не считая «Острова Сахалин» и «Палаты №6». В «Острове Сахалине» он рассказал о своей клаустрофобии, о своем страхе тюрьмы, и о том, как он навстречу этому ужасу поехал на каторгу, поскольку это единственная терапия — вышибать клин клином. И именно почувствовав тупик в своем творчестве, он его преодолел в 1891 году, потому что сумел побороть ужас, сумел в сердцевину этого ужаса проникнуть. А вторая… ну и случай Громова, случай мании преследования — это, конечно, автоописание.
Что касается чеховской «Чайки» — то это тяжелейшая, мучительная расправа со своей любовью к Лике Мизиновой, которая из-за его нерешительности ушла к Потапенко и родила, скоро умершую, дочь в Париже. Это описание его жизни, и он там разделен, по обыкновению своему, на Треплева и Тригорина. Он разделен на молодого авангардиста, неудачника, который гибнет, и на крепкого профессионала-беллетриста, которого он лично ненавидит. В Чехове уживались вот эти двое: искатель новых форм, который обречен, вот этот неудачливый мальчик Треплев, и Тригорин, беллетрист, который овладел приемами. Это расправа с ними обоими. И именно после этого у Чехова начинается совершенно небывалый творческий подъем.
Он в «Чайке» разделался и с собой молодым (робким, влюбленным), и с собой крепким профессионалом. И начался небывалый Чехов — модернист, авангардист, принципиальный новатор. Но новатор, конечно, уверенный, гораздо более опытный, и, если угодно, профессиональный, чем Треплев. Он убил две свои ипостаси в этой пьесе, которые больше всего его мучили. Он не хотел быть Тригориным, и в Тригорине есть отвратительные черты Потапенки, конечно. И он не хотел быть при этом мальчиком Треплевым, мальчиком, которого бросили. Он стал третьим. Если угодно, доктором. Там есть такой доктор, который говорит: «Хотеть жить после 60 лет — это преступление». Вот это такой Чехов, говорящий то, о чем не принято. Когда доктор, произносящий последнюю ремарку, последнюю реплику, что вот это, наверное, «у меня лопнула склянка с ядом… Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился». Вот это, наверное, и есть настоящее чеховское «я». Доктор похоронил двух литераторов.
Кроме того, «Чайка» — это опыт комедии, первой чеховской черной комедии. «Чайка», я много раз говорил, комедия. Это не жанровое определение, а это как в музыкальной пьесе пишут andante или moderato. «Играть как комедию». Это определение манеры, в которой она должна быть сыграна. Попробуйте сыграть «Чайку» с трагическим пафосом, и выйдет ничто. Но если «Чайку» играть как комедию, как жестокую насмешку над великим и сложным чувством, как жестокую насмешку жизни над нашими начинаниями, над нашим старым театром деревенским, и т.д., над нашими дачными мечтами. Если играть «Чайку» как черную страшную насмешку жизни над нами — она приобретает настоящий смысл. «Чайка» — это всякая жизнь, над которой насмехается время, условия, обстоятельства. «Чайка» — это мы все. «Чайка» — это молодость подбитая, да, чайка, которую имели подлость убить. Вот в этом смысле, конечно, жертвенное, страшное, пронзительное понимание жизни, мучительная тоска по уходящему. Вот если «Чайку» играть как комедию, она становится трагедией.