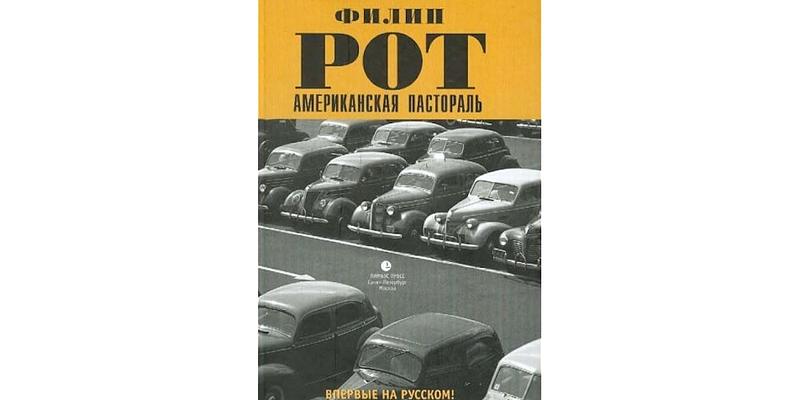Дело в том, что у Капоте почти такое эротическое, страстное отношение к детству, как к недосягаемому объекту желаний. Вот может быть, поэтому, мне кажется, Капоте, насколько я знаю из разных мемуаров, недолюбливал «Лолиту», потому что «Лолита» — это хотя и мрачный, и осуждающий, но все-таки роман о сексуальной эксплуатации детства, а для Капоте детство — это именно эротизм недосягаемости. Вот так бы я сказал. У него в «Музыке для хамелеонов» есть рассказ (по-моему, там) о пожилом мужчине, который переписывается с девочкой. Все его подозревают в педофилии, а он переписывается с ней просто потому, что это благоуханная юность, благоуханная свежесть, больше ничего.
И вот мне кажется, что у Капоте была эта эмоция. Ведь эротизм не всегда направлен на обладание. Эротизм очень часто направлен на любование, на необладание, на недосягаемость. И вот недосягаемость детства, в которое нельзя вернуться, которое нельзя полюбить,— это отчетливее всего у него сказано, конечно, ну, чувствуется отчетливее всего в рассказе «Дети в день рождения», где мисс Боббит — это объект первой любви вот этого и Билли Боба, и самого повествователя, кстати говоря, но она именно неприкосновенна. И она, и её подруга Розальба — это объект такой детской страсти, платонической всегда, неизбежно платонической. И вот в этом, мне кажется, как раз разница между вечной женственностью и вечным детством.
У Капоте, если угодно, была какая-то своего рода вечная девственность, понимаете, вот невзирая на его романы многочисленные, невзирая на его гомосексуализм открытый, на его довольно разнузданный образ жизни. В каком-то смысле он оставался ребенком до конца дней — маленький, с пискливым голосом, когда-то красавец, потом фрик, почти урод. Он был именно вечное дитя. И крошечного роста, и такой инфантильный во всех своих проявлениях, капризный. Взрослый только в литературе, взрослый уже в ранних рассказах.
Сейчас опубликовали первые четырнадцать рассказов Капоте, написанные в восемнадцать лет. Ну, послушайте, он пишет со зрелостью О. Генри. Крупный писатель, настоящий, конечно. И наслаждение — каждый его звук, каждое его слов. Помните, Стайрон писал: «Хороший я писатель, но у меня фраза не звенит. А у Трумена звенит». Вот это действительно какой-то особого рода clinking.
Что касается его самой известной книги, а именно «In Cold Blood», то как раз там есть удивительный контраст жестокой темы и ослепительного, сияющего мастерства. Это, я думаю, главный контраст Капоте — его холодный, ослепительный, блистающий, страшный мир, мир божий. Вот образ Бога у него самый страшный на последней странице «Самодельных гробиков», «Handcarved Coffins». Вот там этот Бог, который пропускает реку между пальцев, как ленту,— страшный образ. Конечно, может быть, он его видел не так, но образ мира у него именно такой — холодное, страшное, жестокое, недосягаемое, недостижимое, не подпускающее к себе совершенство. Вот отсюда невозвратимость детства в «Голосах травы» и теплая робкая человечность, противопоставленная этому.