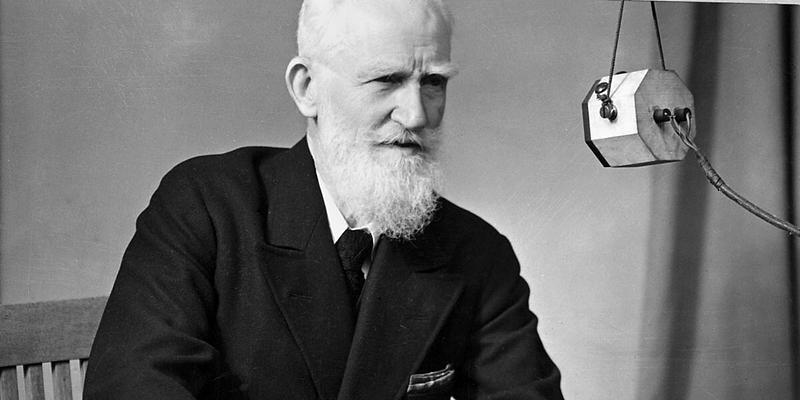От бинарности уходит не мир, от бинарности уходят люди, пытаясь снять бинарные оппозиции для себя. Им стало трудно жить среди бинарных оппозиций, они пытаются упростить для себя, смягчить какие-то коллизии. Сами по себе бинарные оппозиции остаются в полной неприкосновенности. Проблема только в том, что когда двое сталкиваются лоб в лоб, побеждает, как правило, третий, и это тоже серьезная корректива к бинарным оппозициям. Кроме того, христианство вообще-то не состоит в бинарных оппозициях, христианство, как мне представляется, это не «или-или», а это «и-и», это вольтова дуга, возникающая между этими полюсами.
Как-то меня спросили, кто более христианин — Уайльд или Честертон; жертвенное, трагическое, эстетское христианство Уайльда или такое плюшевое, домашнее, комнатное христианство Честертона. Так вот, ребята, мир вообще в христианстве — это вольтова дуга, включающая и то, и другое. Христианство немыслимо без одного из этих полюсов. Именно его всеобъемлющая мощь в том, что оно включает и «детскую господа бога», как называл мир Честертона кто-то из критиков, и включает она и трагические парадоксы Уайльда. Христианство — это и «Рыбак и его душа», и «Человек, который был Четвергом» одновременно. Вот эта вольтова дуга — это, понимаете, такой квантовый компьютер; он исходит не из того, что «да» или «нет», а из того, что «да» и «нет» одновременно. Я всю жизнь стихотворение пытаюсь написать на эту тему, но как-то у меня пока не очень получается. Вот это… Было у меня такое стихотворение:
Набоков писал, как известно,
В одной из своих повестей,
Что мир — это страшное место,
Где мучают толстых детей.
Но дело в том, что мир и то, и другое одновременно. Мир и клейкие зеленые листочки, и вот затравленный гончими мальчик. Как-то вместить это невозможно, но христианство как-то вмещает в себя две крайности: ненависть и любовь, отвращение и сострадание. Без этого нет никакого христианства, никакой свободы, понимаете, как не бывает однополярного магнита.