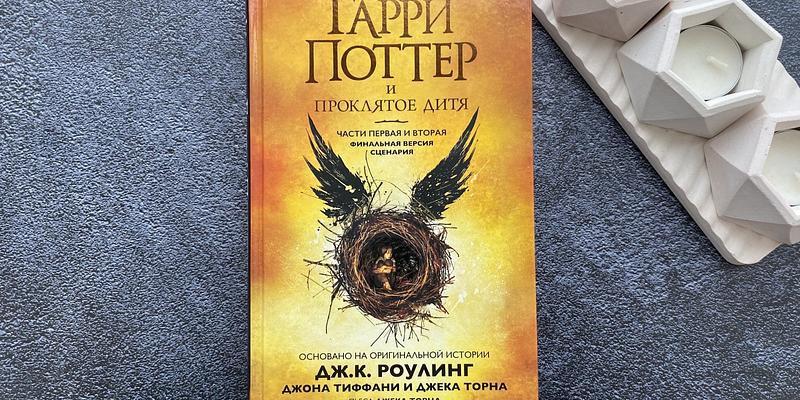Мне грустно в этом признаваться, но я так и не смог полюбить Игоря Северянина. Когда-то я у Николая Дмоховского — одного из героев моего детства, норильского лагерника, памяти которого есть у меня поэма — нашёл у него на дальней полке сборник Северянина «Соловей» 1922 года. И так мне понравилось! Я ненадолго только мог у него взять, он не расставался с драгоценной книгой. Я на магнитофон почти всю её начитал, чтобы иметь, и довольно много оттуда до сих пор помню.
И всё-таки Северянин кажется мне поэтом далеко не первого ряда. У него есть замечательные стихи, разговора нет, но он совсем не мой. Понимаете, всё-таки он ограничивается стилизацией, а собственно прорывы… Он тоже как бы генеральная репетиция какого-то другого поэта или, может быть, бледная тень какого-то автора — ну, Кузьмина, например. Потому что куртуазность Кузьмина — она гордая, отчаянная, в ней есть и вызов; и у него страшное сочетание греховности, старообрядчества, ригоризма нравственного, если угодно — извращения и ригоризма. На этом удивительном конфликте стоит Кузьмин — глубоко нравственный человек. А у Северянина я не вижу такого конфликта. Или во всяком случае не вижу мировоззрения.