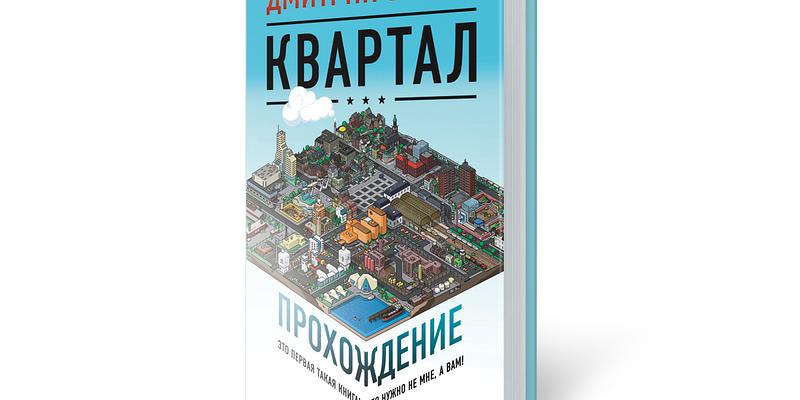Нет, я не ставлю перед собой неразрешимых задач. Я прекрасно понимаю, что у меня будет волновать происходящее в России, меня будет интересовать происходящее в русской культуре, в которой я какое-никакое (не могу сказать, что большое) место все-таки занимаю. Какое-то занимаю, безусловно. Сужу я об этом прежде всего по реакции на меня американских друзей – студентов, славистов. Так что нет, я не думал бросить то, что я там прожил и то, что я там видел и сделал. Иной вопрос, что писать по-английски я, конечно, буду. От этого никуда не денешься. Писание на английском делает речь более четкой. Переводить с английского я буду много. Вот «Март» переведу Кунищака, буду «Сорделло» заканчивать. Конечно, я буду переводить, мне это нравится.
Но отказываться? От какого наследства мы отказываемся! Прощаться с русской памятью – зачем же? Мне наоборот кажется правильным (как мне всегда казалось правильным быть евреем в чужой стране) быть русским, который оторван от России. Для нас и России, как я в лекции говорю, актуальна судьба прикованного Прометея. Нас надо отковать, отковать нас от этой огромной территории, которая диктует нам свои условия, свой климат, свою вертикальную модель власти. Россия, которая оторвется, – это Прометей, которого оторвали от скалы. И я думаю, что «Рассеянная Россия» – это движение, которое имеет великолепные перспективы. Я просто не нахожу, куда бы об этом написать. Но такой трактат я со временем опубликую обязательно. Лучше всего быть русским вне России. Лучше всего быть, как сказано у Галича, «гражданином, послом не имеющей названия державы». Патриотом без родины, государственником без государства, пребывать в таком абстрактном мире идей. За идеи же тоже можно умирать. Совершенно не обязательно умирать за кровь и почву.