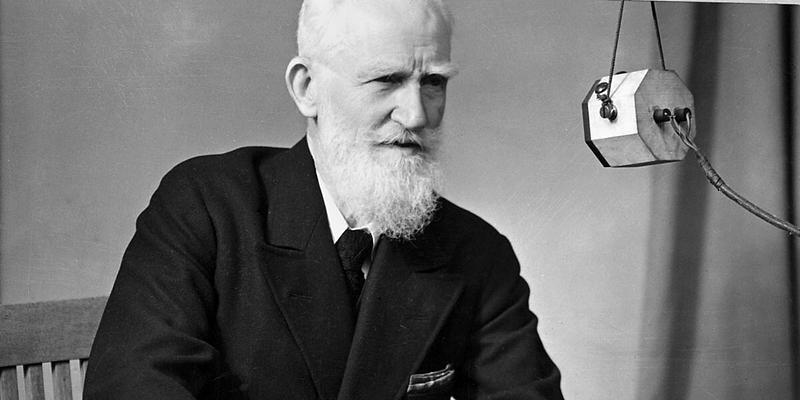Это не совсем так. Понимаете, какая вещь? Это тот самый случай, когда есть и чувство бога, и чувство гармонии мира, и чувство неслучайности всего, но нет художественных средств, чтобы это выразить. Честертон был великолепный чувствователь, замечательный эссеист, гениальный догадчик, хотя и ему иногда изменяло чутье довольно часто, он о Муссолини отзывался положительно.
Но видите какая вещь? Художественных средств для выражения в себе этой прелести мира у не было. Он посредственный писатель. Простите, что я это говорю. Он был гениальный богослов и теолог, замечательный биограф и эссеист, феноменальный газетчик («писатель в газете» – это его самоопределение, это жанр, который он открыл). Но ничего не поделаешь, с чисто художественной стороны здесь все по-другому. Психологизм Честертона слаб, детективы его слишком эксцентричны и потому недостоверны, напугать он по-настоящему не может. У него одна гениальная книга. Это «Человек, который был Четвергом». Столкнулись два гения, потому что это еще и гениальный перевод Натальи Трауберг. По-русски эту книгу читать едва ли не обаятельнее, чем по-английски. Хотя и по-английски эту книгу читать большая радость. Мне повезло, потому что три гения столкнулись: я сначала узнал об этой книге в матвеевском пересказе, а уже потом прочел самостоятельно.
Это действительно божественная вещь. Когда сошелся жанр и автор. У Честертона – а книга имеет подзаголовок «a nightmare» (ночной кошмар) – с описанием снов несколько лучше обстоит дело, чем с психологией глубинной. Он совсем не психолог. Он замечательно описывает удивительные выдумки и чудеса, он, может быть, шел по гриновскому пути, но ему не повезло открыть свою страну, этакую «Гринландию». Он все-таки пытается работать в русле традиционного романа. Поэтому и «Шар и крест», и особенно мне неприятный «Перелетный кабак», вся эта искусственная, вымученная – Борхес это очень точно почувствовал – нормальность, больная нормальность, которая у невротика никогда не получается. А Честертон же был типичный невротик – с такими типичными реакциями, как потеря сознания во время родов жены, с падением в кому во время войны. Зашкаливает его эмоциональный ряд, его эмоциональное чутье. Поэтому его проза это в некотором смысле.
Ну вот как Андрей Шемякин называл Параджанова кинематографистом докинематографической эпохи, и в Тбилиси это очень понятно. Потому что здесь коллажная техника очень популярна. Насколько Иоселиани тотальный кинематографист, насколько Параджанов – это коллажная техника докинематографической эпохи. И при всем уважении к Параджанову, динамики в его фильмах недостаточно, особенно после «Цвета граната», последних работ. Вот «Легенда о Сурамской крепости» – гениальная же картина. И «Ашик-Кериб» тоже. Но все-таки это не кино, а это что-то другое. Да и в самом «Цвете граната» кино начинается в последних сорока минутах, на мой взгляд. Чем ближе к смерти героя, тем больше в этом мире оказывается динамики. А так это монтаж аттракционов замечательный.
Но именно ужас в том, что чаще всего люди с избытком эмоций наделены некоторым недостатком воображения, недостатком движения. И поэтому, может быть, проза Честертона – это не совсем проза.
Он правильно совершенно говорил, что чем сложнее существо, тем дольше длится его детство. Честертон в каком-то смысле так и не повзрослел. А проза требует взрослости, это взрослое такое дело. Он не дожил до прозы. Поэтому ему удалось в первом романе добиться наибольшей выразительности. Вот в 1908 году он прыгнул выше головы и больше уже так не прыгал. Его мировоззрение сложнее, чем его арсенал, вот так бы я сказал.