Это абсолютно очевидно. Ресентимент — такая штука, что она очень соблазнительна. Поэт — он же, понимаете, можно вдохновляться разными страстями. Источником лирики может быть и ненависть, может быть и страх. Страшные стихи — вот вам, пожалуйста, целая антология. А может быть и ресентимент. Поэт как бы делает себе такую прививку. Томас Манн же находил утешение в ресентименте. Целую книгу написал — «Рассуждения аполитичного». Книга омерзительнее всех из им написанных.
А что касается «На независимость Украины» и «Клеветникам России», то здесь два общих момента. Во-первых, любовь к языку как вариант любви к родине. Конечно, Бродский вдохновлялся обидой за язык. Вот 25 лет, как нет Бродского, и конечно, это сегодня одна из самых обсуждаемых фигур. И конечно, он не имперский поэт. Но попытки сделать из него имперского поэта есть. Он имперский только по одной линии — ему обидно за язык. Он обижается за культуру, которую отвергают люди, только хлебнувшие, только немного попробовавшие свободы.
И вторая причина — понимаете, в трактовке любви, в трактовке любовной темы есть две одинаково перспективные и, я бы сказал, одинаково плодотворные крайности. Одна — пушкинский, очень редко встречающийся у остальных авторов вариант: «Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». Я вас отпускаю без ревности и даже без печали. Прощайте и спасибо вам за те прекрасные минуты, которые вы мне дали.
Но ведь дело в том, что в любви тоже есть своего рода ресентимент. Тема любви трактуется почти всегда как тема любви к родине. В свое время у Эткинда была замечательная мысль, что всякий значительный поэт разворачивает тему любви к женщине как тему любви к Богу. Это интересное наблюдение. И такое есть. Но вот тема отношений с женщиной и с родиной, мне кажется, более перспективна.
Дело в том, что отвергнутый любовник очень редко способен сохранять лицо. Появляется масса стихотворений, в которых тема мстительности, тема такого ответного проклятия начинает звучать довольно громко. Пример — у Бродского «Дорогая, я вышел из дома поздно вечером» — стихотворение, проникнутое самой примитивной мстительностью. Тем более, что у Бродского как раз были стихотворения, где лицо вполне сохраняется, где при плохой игре всё-таки делается хорошая мина. «Пьяцца Маттеи»:
Нет, я вам доложу, утрата,
Завал, непруха
Из вас творят аристократа
Хотя бы духа.
Или, как вариант, у Лермонтова — «За всё, за всё тебя благодарю я…»:
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
Это можно прочесть и как стихотворение о Боге, и как стихотворение о возлюбленной. Лицо сохранено.
Проблема в том, что ресентимент в любви, извлечение вдохновения из ревности, из ненависти, из мщения, из отвратительных чувств — это довольно частая поэтическая эмоция. Другой вопрос, что это не всегда отрефлексировано. Именно поэтому плохой человек редко может быть хорошим поэтом. Потому что у него это всё искренне. Но если человек может это в себе отследить, сделать из этого искусство и тем избавиться — тогда ради Бога.
Ведь понимаете, какой важный момент обычно упускается в трактовке «Клеветникам России»? Я много раз писал о том, что в основании всякой культуры стоят, условно говоря, два передумавших — раскаявшийся варяг и раскаявшийся хазар, передумавший консерватор и передумавший революционер.
Как Толстой, который начинал как апологет аристократии и пылкий патриот, кстати говоря, а кончил отрицанием самой идеи патриотизма и ненавистью к понятию аристократии. Хотя у него всё это было очень амбивалентно. Достоевский начинал как фурьерист, а кончил как абсолютный лоялист и, более того, консерватор из консерваторов, чуть ли не сторонник Константина Леонтьева.
Следовательно, Пушкин тоже пережил очень тяжелый кризис. И для него разочарование в Европе порождает своего рода ресентимент. «О чем шумите вы, народные витии» — это же обращение к былым кумирам. Он же думал, понимаете, что Европа «примет радостно у входа». Но он видит со стороны Европы (прежде всего со стороны Польши) то, что ему кажется предательством.
Это реакция очень многих на 90-е годы, когда мы вас так любили — так любили Америку, так любили Запад. Мы даже иногда не болели за собственные родные команды. А вы вот с нами так… При том, что Америка, мне кажется, особого высокомерия не проявляла. Но да, действительно, многие сходятся на том, что она могла бы быть как-то подобрее, поприветливее, а не только швырять нам гуманитарную помощь. Никогда не забуду, как бабушка моя получила гуманитарную помощь из штатов — туфли на высоком каблуке 36-го размера. Со стразами причем. Ну нормально. Люди добра нам желали.
Это ведь вдохновлено не новыми патриотическими чувствами. Это вдохновлено разочарованием в Европе. И разочарование это наступило гораздо раньше — уже после Наполеона. «Где буря — там уже на страже или просвещенье, или тиран». Европа предала себя.
Это, кстати, вечный крик российских ресентиментариев: «Да мы больше вас любим вас!» Это Достоевский. «Да мы больше вас чтим священные камни Европы! Но вы предали себя. Мы любим Европу крестовых походов, Европу по колено в крови, а не нынешнюю сахарную водичку, не нынешний сироп» («Зимние заметки о летних впечатлениях»).
Мы Украину любим больше, чем сами украинцы. Но только пусть эта Украина будет такой, какой ее хотим видеть мы. Пусть она будет нашей карманной, нашей запазушной. И тогда мы готовы ходить в вышиванках и петь украинские песни, которых мы знаем больше, чем вы. Да мы за Америку! Мы любим Америку — но ту, настоящую, Америку Трампа». Вот это желание видеть всех такими, какими хотим мы, а не такими, какими хотят они: вы будьте нашими, а уж тогда мы вас полюбим.
Конечно, пушкинское стихотворение вдохновлено жесточайшим ресентиментом: мы думали, что вы нас любите, а вы нас не любите! Он между нами жил,— негодует Пушкин,— мы же его, Мицкевича-то, другом считали! Я с ним за руку здоровался, «С дороги, двойка — туз идет!», приветствовал его. А он отвечал: «Козырная двойка туза бьет». И тут он нам теперь, понимаете, пишет в ответ «Друзьям-москалям» — стихи о том, что мы все холопы. Ну как же так? Мы же его любили! Как он смеет нас не любить?
Это ресентимент, очень понятное чувство — такая уверенность, что весь мир должен нас обожать, целовать наши следы, и тогда мы будем к нему снисходительны. Это довольно нормальная, естественная вещь. Что здесь такого? Другое дело, что настоящий поэт, когда ревнует, или проклинает, или ненавидит, он немножко иронизирует. Как Шиллер в переводе Гинзбурга:
Стерва, выгляни в окно!
Ах, тебе не жалко.
Я молил, я плакал, но
Здесь вернее палка.
Дождь идет, кругом темно.
Стерва, выгляни в окно!
Ну, человек иронизирует над собственными чувствами. Нормально.






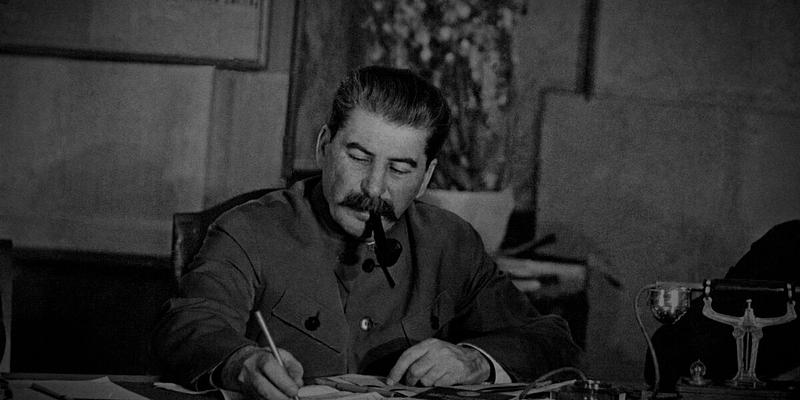


Не со всем согласен, но ответ Мицкевича кудрявому очень достойный!