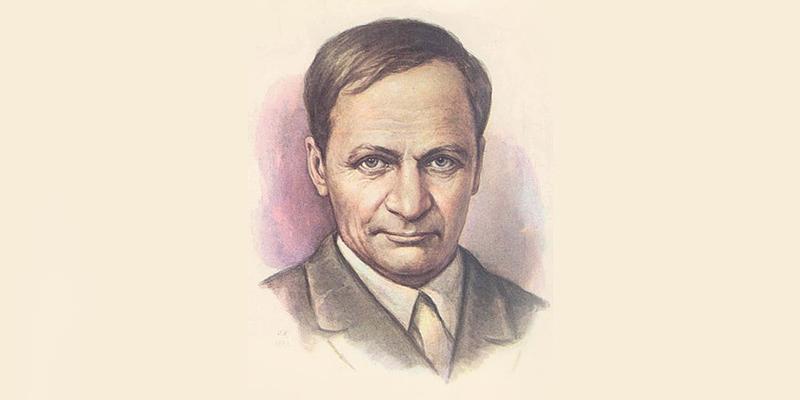Андрей Платонов — может быть, действительно единственный настоящий гений русской прозы XX века. Не потому, что он создал собственный стиль, а потому, что он приковал взгляд читателя к новому феномену. Это феномен массы. Главный герой Платонова — масса. Главная жажда, главное намерение всех его персонажей — это слиться в единое коллективное тело, как бы ионизироваться, превратиться в этот ионизированный газ, войти в то состояние, которое… ну, в такую человеческую плазму, если угодно, которая есть четвёртое состояние вещества. Когда одиночки становятся толпой, даже перестают быть толпой — это особый вид толпы, это такой действительно коллективный телесный персонаж, коллективный разум, единое тело. И всегда, как это ни удивительно (а особенно это русское явление, конечно), Россия к этому безумно стремится — вот в это состояние впасть. Она им опьяняется, она им восторгается. У Абдрашитова и Миндадзе был гениальный фильм «Магнитные бури» о том, как ионизируется эта масса, а на следующий день забывает, что с ней было («А что это мы делали?»), вообще не понимает.
Платонов ранний, весь до «Епифанских шлюзов», ещё имеет дело с личностями. Но недостаточность личностей — это одна из главных его тем. Личность слишком физиологична, слишком физиологически обусловлена. Отсюда — его отношение к сексу, который делает человека… который рисуется ему рабством, если угодно, потому что зависимость от тела для него мучительна. Надо преодолеть эту зависимость в слиянии, в этом коллективном экстазе!
Его главная тема, рискнул бы я сказать,— это превращение людей в народ и стартовые условия этого превращения. Понимаете, вот то, что мы любим у Платонова, как правило — рассказы об отдельных людей, такие как «Третий сын», «Река Потудань», «Фро»,— это всё-таки поздний, такой сжиженный Платонов. Настоящий Платонов — это «Чевенгур», конечно, высшая точка, «Чевенгур» и «Котлован». Это история об удачном, неудачном, неважно, но о стремлении массы превратиться в этот единый, идеальный газ, в единую плазму. Ионизация же не всегда происходит, так сказать, по позитивному сценарию и только в результате коллективного какого-то вдохновения. Иногда она проходит под действием толпозности, стадности, желания травли и так далее. Просто наслаждение от этого таково…
Понимаете, ведь Новороссия — тоже платоновская тема. Это мучительная, пусть с негодными средствами, но это попытка опять стать народом, вот высечь из себя эту искру. И наша ли вина, что это заканчивается так, и что это так происходит, и что это всегда сопряжено с достаточно серьёзными человеческими жертвами. Иногда это же бывал и ещё экстаз коллективного строительства, коллективного созидания, а не только война, не только захваты, не только вторжения. Иногда это бывало, как это описано в «Чевенгуре»,— попытка создать небывалое государство. Там тоже, кстати, к сожалению, это закончилось истреблением кулацкого элемента. Но ужас весь в том, что есть эта жажда коллективного Чевенгура, жажда осуществиться. Без очередной дозы Чевенгура страна как бы впадает действительно в ломку, она просто не успевает слезть с иглы. Я, кстати, думаю, что некоторые элементы состояния Чевенгура можно найти во Франции, например, времён Великой революции. Но в основном это, конечно, наше.
Я в своей статье, которая вышла сейчас в «Дилетанте», как раз там Платонов… Видите, почему-то интерес к нему совпал у вас и у редакции. Вообще, сейчас очень многие перечитывают Платонова, видимо, пытаясь в нём увидеть какой-то ответ на современные вопросы. И действительно мы жаждем стать плазмой. Не Путин виноват, мы жаждем вот этого экстаза. Он тоже, конечно, много сделал для того, чтобы люди испортились. Но их жажда слиться — это необязательно порча. Это желание освободиться от Я, потому что Я смертно, Я ответственно, а русские очень любят этот коллективный экстаз, желание превращаться в эту единую плоть. Я прекрасно понимаю, что говорить о Платонове в рамках десятиминутной лекции бессмысленно, потому что люди жизнь посвящают этому человеку. Но я говорю о том, что меня больше всего в нём напрягает и волнует.
Прежде всего, конечно, все обращают внимание на трагедию платоновского языка. Как говорил Бродский: «Трагедия — это не когда гибнет герой, а когда гибнет хор». Это зацитировали точно так же, как зацитировали его хрестоматийное сравнение насчёт того, что Набоков с Платоновым соотносятся так же, как канатоходец со скалолазом. На самом деле мне кажется, что там, где Набоков исследует запредельные, тонкие свойства личности, там Платонов исследует свойства массы. Я бы не стал кого-то одного ставить выше другого. Просто Платонова читать труднее, а Набокова приятнее. Вот сразу и получается, что Платонов лучше. Но на самом деле, конечно, я бы их не стал как-то…
Для меня, конечно, платоновская трагедия языка состоит именно в таком же превращении речи в плазму, в смешении всех слоёв. Действительно, это такая смесь нейтрального европейского слога (вот если взять «Епифанские шлюзы»), официозного языка, галлицизма, какой-то любовной и пейзажной лирики. Можно процитировать:
«На планшетах в Санкт-Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно. Перри видел океаны, но столь же таинственны, великолепны и грандиозны возлежали пред ним эти сухие, косные земли. Овсяные кони схватили и понесли полной мочью, в соучастие нетерпеливым людям».
Вот эта языковая плазма, которая отражает стремление народа так же слиться,— она и есть главная отличительная черта платоновского почерка. А главный конфликт «Епифановских шлюзов» буквально двумя фразами задан:
«Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и мучительной скукой. А на самом деле — ничего себе».
Вот это и есть самое точное определение русской жизни: «На самом деле — ничего себе». То ли потому, что привыкаешь, то ли потому, что вид этих просторов сам служит лекарством, то ли потому, что здесь иначе жить нельзя. Эта русская жизнь страшна, но по-своему уютна. Вот это ощущение страшного уюта где-то глубоко в Платонове живёт.
В «Епифанских шлюзах» высказана очень точная мысль. Ведь там что происходит? Там, когда начали строить эти каналы, пробили глину, пробили водоносный слой — и после этого вода ушла, и одни пески засасывают. У Платонова высказана страшная мысль, мне кажется, о том, что какой-то косный слой русской жизни («косные земли»), что этот слой революция пробила, и что-то безвозвратно ушло, вода ушла — и теперь мореходство по этим землям быть не может.
Что касается «Чевенгура», то это такой сложный синтез разных текстов, разных жанров: тут и «История одного города», тут и роман-странствие «Кому на Руси жить хорошо», и вообще все странствия Серебряного века, начиная с «Серебряного голубя» и кончая скалдинским или чаяновским путешествиями. Помните, у Чаянова было «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии»? Вот это тоже такое предвестие «Чевенгура». Все герои этих текстов стремятся действительно выйти из себя, смешаться с толпой, превратиться в часть коллективного государства.
Чевенгур — это общность совершенно нового порядка. Здесь человек преображается физически, и он становится иным, и ему нужен другой мир с другими физическими законами. Это страна блаженных, в таком классическом смысле, страна юродивых, идиотов. С точки здравого смысла (вот как Сталин пытался читать Платонова), «Чевенгур» читать вообще нельзя: это гротеск, абсурд, насмешка. Сталин и Горький в частности, они видели издевательства там, где была апология. Им казалось, что Платонов издевается, а он это возвеличивает, он этим упивается на самом деле! Даже в «Котловане». Ведь «Котлован» — это антиутопия только потому, что там изображена вот эта русская жизнь, из которой ушёл её плодоносный, водоносный слой. Там всё насильственно, всё поперёк.
А Чевенгур — это же добровольная, прекрасная утопия, это такой позитив. Это русская концепция счастья. Во-первых, в Чевенгуре не надо работать: труд ненавистен самой человеческой природе. Вот Дванов пытается сделать машину, которая будет работать за всех (а Дванов — как раз самый позитивный герой). Она не работает, но она в идеале у Платонова должна. Во-вторых, нет традиционной семьи — все со всеми. И в-третьих, периодически надо кого-то убивать, потому что без этого нет настоящего счастья: коммунизм без горя не бывает, без крови ничего не делается.
И если мы увидим вдумчиво русскую утопию, то её черты постоянные: презрение к труду, отказ от семьи во имя коммуны, презрение к сексу, предпочтение интеллектуальной и классовой близости — и сверх того вера в творческую и связующую силу крови. Убивать как-то получается действительно интересней, чем строить:
«Теперь жди любого блага,— объяснял всем Чепурный.— Тут тебе и звёзды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как оживевшие дети,— коммунизм дело нешуточное, он же светопреставление».
Вот тут возникает вопрос: а кто те таинственные казаки, которые в конце концов захватили Чевенгур и убили Копёнкина? Просто русская утопия всегда заканчивается тем, что прибегают какие-то таинственные всадники и уничтожают всех. Я подозреваю, что это так предугадан так называемый «русский реванш» — реванш националистических, косных и зверских сил в 30-е годы. А Чевенгур сам по себе — это 20-е. Чевенгур — это страна той утопии… «Я вижу конские свободы и равноправие коров» Хлебникова, Заболоцкого. Можно будет действительно построить новый мир — мир, в котором всё управляется словом.
Время там действительно не движется, сюжет стоит. И вообще очень быстро возникает такое чувство в Чевенгуре, что ты попал в тифозный бред русского мастерового. И даже есть такая версия, что Дванову это всё привиделось действительно. Но если какая-то проза и способна отразить русскую мечту, то — вот:
«Кирей знал, что ему доверено хранить Чевенгур и весь коммунизм в нём — целыми; для этого он немедленно установил пулемёт, чтобы держать в городе пролетарскую власть, а сам лёг возле и стал приглядываться вокруг. Полежав сколько мог, Кирей захотел съесть курицу, однако бросить пулемёт без призора недопустимо — это всё равно что передать в руки противника,— и Кирей полежал ещё некоторое время, чтобы выдумать такую охрану Чевенгура, при которой можно уйти за курицей».
Вот это и есть такая утопия. Понимаете, при всей её наивности, видимо, призыв её силён, потому что мы всё время жаждем слиться в коллективное тело, ощущая свою человеческую недостаточность. Вот Платонов — поэт этого слияния. И пока жива эта мечта, жива и эта утопия.