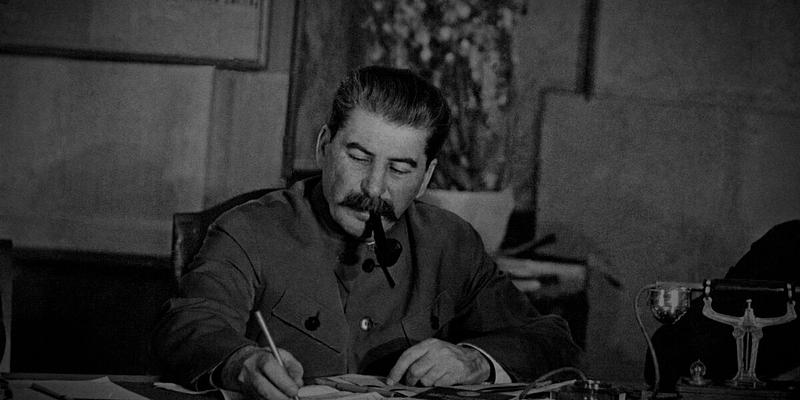Видите ли, побег Пушкина был в некотором роде толстовским – просто он был радикальнее. Это был прямой побег в смерть. Он предполагал убежать в Михайловское, но оказалось, что сбежал в смерь. Я совершенно не исключаю для Пушкина такого исхода. У Толстого это было в «Отце Сергии», в «Хаджи-Мурате». Большой художник под конец жизни становится заложником своей репутации. Художник и заложник – это рифма очень неслучайная у Пастернака. Толстой так точно ощущал себя заложником, причем не только в семье, но и в секте. «Я не толстовец», – говорил он дочери Маше. Конечно, здесь было его несогласие с учением, с апологетами; с тем, что апологеты этого учения продвигали в качестве учения. Оно его очень сильно преследовало в последние годы, дожимало. Я думаю, что любой создатель учения (не исключая Христа) испытывает нечто подобное.
С Пушкиным сложнее. Потому что Пушкин такой секты не создавал. А вот бегство Толстого – нормальный акт для большого художника и особенно для вероучителя. Это нормальный акт возвращения к себе. Те же мысли есть у Гумилева в «Молитве мастеров»:
Храни нас, Господи, от тех учеников,
Которые хотят, чтоб наш убогий гений
Кощунственно искал всё новых откровений.
Храни нас, Господи, от слишком последовательных последователей. Вот это, наверное, неизбежный путь сколько-нибудь значительного художника. В конце концов, Вознесение – это же тоже не в последнюю очередь акт победы. Я думаю, что бегство Толстого – это в значительной степени художественный акт последний.