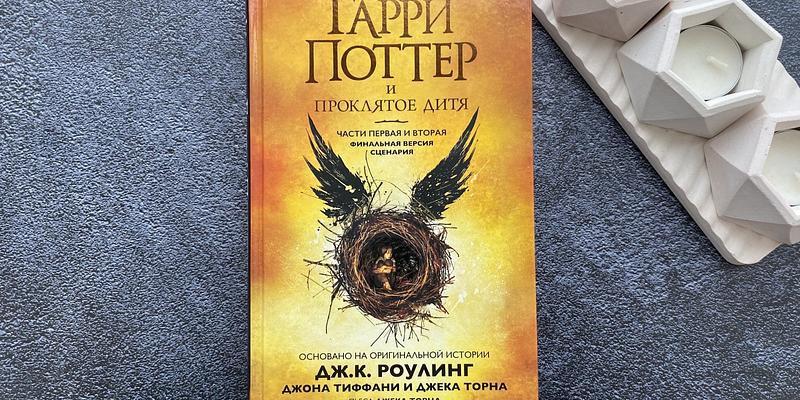Сложная фигура. Однозначного отношения к нему, я думаю, быть не может, потому что, как и у многих русских авторов, дар его часто входил в противоречия с идеологией. Идеология была самая что ни на есть кондовая. Но здесь тот редкий случай, когда мы можем просто с полным правом сказать, что Солженицын [Солоухин], будучи от природы одарённым, замечательным бытописателем, он был никаким мыслителем, он был человеком не слишком умным, но очень талантливым. Такое бывает. Во всяком случае, его домыслы о том, что Блока отравила Лариса Рейснер, что Гайдар был клиническим и патологическим садистом, что у него изложено в «Солёном озере» (Камов яростно защищал Гайдара, я помню), или что надо ввести в обращение слово «сударь» вместо «товарищ», да и вообще его теоретические воззрения, как правило, ужасны. Солоухин прекрасен там, где он описывает. И такое бывает.
Начинал он как поэт, и поэт довольно посредственный. У него было несколько хороших стихотворений — например, скажем, «Лозунги Жанны Д'Арк» или замечательное стихотворение про реку Неглинку («Как лет мильонов через двадцать // Она переживёт Москву?»). Его стихи отличались такой замечательной простотой, простодушием, я бы сказал. Но в целом, всякий раз как он пытается мыслить, получается какая-то полная ерунда, а особенно в его белых стихах. Он был совершенно не теоретиком. Но он был (что ценно) замечательным прозаиком и мастером так называемой лирической прозы. И слава пришла к нему с «Владимирскими просёлками». Это первая публикация, которая во всяком случае заставила говорить о Солоухине-прозаике.
Вторая вещь, которая действительно сделала его всенародно любимым,— это «Терновник» — замечательная такая, но как бы ни о чём особенно не говорящая, никаких особенных откровений не содержащая хроника одного лета. Сначала герой поразительно точно, достоверно (вот за эту точность деталей его ценили особенно) описывает пребывание своё на юге, а потом он возвращается в скромную или, как тогда писали, «неброскую» красоту родной деревни и там проводит остаток лета и осень. Вот этот терпкий вкус терновника, обжигающий холод воды (он ходит там купаться в пруд каждое утро), запахи дачной и деревенской России, знакомой тогда каждому,— меня это подкупало удивительной, такой непретенциозной, я бы сказать, подчёркнуто обывательской интонацией. Он действительно был мастер описания жизни, как она есть, без какого-либо идеологического подтекста, без философского осмысления её.
Когда Солоухину приходилось выходить на темы философские (например, в повести «Приговор»), он демонстрировал какую-то удивительную плоскость мышления. Вот там всё автобиографично. Там такая история, кстати, очень характерная для 70-х годов. Это вообще очень семидесятнический писатель, семидесятническое произведение. Там он всё думает, за что ему послан онкологический диагноз. Его семья не очень хорошо обошлась с домработницей, которую просто выгнали, заподозрили в краже, которой потом не оказалось. А потом у него обнаружилась родинка, которая, скорее всего, маскировала злокачественную опухоль. Всё это описано очень точно, именно по-обывательски точно. И появление этой родинки, и страх перед визитом к врачу, и конфликт с работницей — всё это поразительно живо. Но вместе с тем — поразительная метафизическая бедность и всякое отсутствие глубины. Вот этот писатель очень много размышляет о том, что от него останется, что о нём будут помнить, заслуживают ли его тексты бессмертия. Но самого бессмертия, подлинно глубоких мыслей о жизни и смерти там просто нет, там это отсутствует.
Действительно иногда подумаешь, что у советского писателя вместо души было тщеславие. И он вполне серьёзно склонен был думать, что его писания, какие-то его повести или стихи станут вместилищем его души после того, как его не будет. Это такая очень наивная советская вера в то, что человек — это то, что он сделал. Я тоже, конечно, говорю, что в основе профессии лежит совесть, а в основе совести — профессия. Но я никогда бы не подумал, что главным источником, главным смыслом пребывания человека на земле могут стать его сочинения. Важно то, что он сделал со своей душой, а не то, что от него останется, не вот эта материальная сторона.
Поэтому в «Приговоре» нет метафизического страха смерти, нет «второго дна», глубины, а есть просто ужас перед обстоятельствами, такой обывательский ужас, который испытывает, помните, герой романа Трифонова после того, как у него перед выездом за границу обнаружилась раковая болезнь. Он не оттого горюет, что он, может быть, умрёт, а оттого, что он не поедет за границу. Вот это была такая советская страшная редукция жизни, да может быть, и смерти, потому что советской смерти не существовало в метафизическом смысле.
Конечно, особая статья в творчестве Солоухина — это его забота о старине и его книга «Чёрные доски» о том, как он собирает иконы. Это породило огромную интеллектуальную моду: почти в каждом московском интеллигентом доме появились иконы, купленные у стариков в заброшенных деревнях. И тут тоже пафос и идея вступают в роковое противоречие с художническим даром. Когда Солоухин описывает бедного полуслепого старика, который охраняет разрушенную церковь и просит не забирать оттуда последние иконы,— это удивительной силы и любви описание, удивительно трогательное.
Когда он описывает процесс реставрации этих икон — это одно из самых азартных и самых удивительных чтений, которые были мне тогда доступны. Вот как тряпочка вымачивается в растворе, ставится на эту чёрную доску, некоторое время пригнетается гирькой, потом снимается слой размякшей краски или потемневшей олифы — и невероятно яркие, невероятно выпуклые какие-то красные и синие краски вдруг сияют из этого окна среди черноты. Но тут профессор говорит: «Нет, это ещё аляповато, это поздняя роспись, а есть настоящая». И на этот левкас, на этот слой живописный ставят опять тряпочку, опять пригнетают гирькой, снимают — и обнаруживается божественной тонкости письмо, невероятное, проглядывают краски XV века. Конечно, то, как это было описано — как скальпелем снимают эту краску, как раскрывают эту икону,— при чтении это было таким наслаждением! Мне так хотелось не то чтобы это делать, но хотя бы на это посмотреть, поучаствовать как-то. Коллекционирование икон не важно, а важен этот секрет расчистки. Он описывал это гениально!
Что же до идеологической стороны дела, то, конечно, ориентация на архаику, ориентация на древность, поиски корней — всё это было в очень большой моде в 70–80-её годы. Наиболее ярко, пожалуй, это сказалось в романе Владимира Чивилихин «Память», в котором тоже, в общем, сочетаются замечательные догадки и образы с чудовищно кондовым языком, примитивными представлениями и слащавостью дикой. В общем, роман Владимира Чивилихина, с одной стороны, конечно, разбудил память, а с другой — стал названием самой одиозной организации.
Понимаете, в чём дело? Кто же из нас против исторической памяти? Проблема в другом: историческая память не должна быть руководством к действию, потому что то, что было, то прошло. И всё время стремиться вернуться в прошлое и увидеть в нём идеал архаический — ну, это русская славная традиция со времён «Беседы любителей русского слова». И всё живое в литературе всегда эту традицию отрицало.
И вот парадокс: творчество Солоухина скорее, в общем, модернистское, потому что это такая бессюжетная проза, почти журналистский, подчёркнуто будничный нарратив, как бы лишённые сюжета автобиографические дневниковые повествования — всё это принадлежит XX веку. Но вот этот тяжеловесный культ прошлого, ненависть к любому реформаторству и поиски идеалов в прошлом — это было так скучно, так тяготило читателя! И главное — всё время вступало в противоречие с такой, я бы сказал, гедонистической природой солоухинского дара. Ну, где ему говорить о христианской аскезе, где ему говорить о гордом воздержании, когда он поэт сытного стола? По-моему, никто так не описывал еду, как Солоухин.
В этом смысле, пожалуй, самый большой его литературной удачей я считаю книгу «Третья охота». Я её ещё прочёл в очень хороших обстоятельствах. Я летом отдыхал в таком пансионате подмосковном, где по советским временам очень плохо кормили. Ну, это был нормальный такой советский скучный общепит. И вот моим главным утешением была книга Солоухина «Третья охота» про грибы с эпиграфом из Аксакова: «Смиренная охота брать грибы…» Понимаете, он так описывал эти рыжики, которые надо съедать свежими и сырыми, желательно не выходя из леса (наизусть помню!), поджаривать на прутиках, пока соль не зашипит, не расплавится. Или эти сморчки, которые надо готовить правильным образом, иначе они будут похожи на жареные бараньи кишки. И эти подберёзовики и белые грибы… Он говорил, что русский язык — в сущности это боровик, а украинский при нём — подберёзовик (такая диалектная ветвь). Вот эти братские отношения сохраняются и у грибов. Это было бесконечно трогательно и мило.
Я вообще считаю, что Солоухину не было равных в описании так называемой плоти мира. Интересно, кстати говоря, что женщин у него в прозе нет, да и сюжетной прозы почти нет. И женщины даже в стихах у него (я помню: «Твоя бедовая, // Твоя отпетая, // Твоя гордо посаженная голова») — это всегда всё-таки декларация, там живой женщины не видно. А вот когда он описывает еду — вот этот терновник с его холодным росистым утренним вкусом, или отварную картошку какую-нибудь, или даже тушёнку в лесу — просто пахнет от каждого слова!
И вот за что я люблю его «Третью охоту». Дело в том, что у русской охотничьей прозы есть удивительная особенность: всегда, когда бы герой ни пошёл охотиться, путешествовать, даже рыбачить, как Аксаков, взор его обязательно упирается в социальную справедливость, и вместо записок охотника выходят записки о крепостном праве. Мне очень нравится, что Солоухин в «Третьей охоте» абсолютно избежал ненужных размышлений, ненужной социальной критики. Я очень люблю это у Тургенева, но у Солоухина этого не получилось. Видимо, в России для того, чтобы не видеть социальной несправедливости, надо идти глубоко в лес и там, кроме того, быть поглощённым именно сбором грибов, а не глазением по сторонам. Ещё Пришвин — тоже великий певец русской природы — когда-то высказал смелую мысль о том, что в лесу надо смотреть не вниз, не искать грибы, а надо смотреть вверх — на стволы, на ветки, и вы получите гораздо большее впечатление. Вот Солоухин, идя в лес, смотрит на грибы, поэтому его взор не отвлекается ни на какие картины социального неравенства или национального угнетения.
Что я думаю о его более поздних вещах, таких как «Чаша», упомянутое «Солёное озеро» или «Читая Ленина»? Мне кажется, что ненависть Солоухина к Ленину шла из того же источника, из которого и шла его любовь к Сталину. Он любил консерваторов и не любил модернистов, любил закрепостителей и не любил разрушителей. Всё-таки Ленин и Сталин — это две абсолютно противоположные друг другу (и по вектору, и по смыслу) фигуры. И немудрено, что Солоухину, бывшему кремлёвскому курсанту, больше нравился Сталин с имперским величием.
Я солидарен отчасти с критикой Чубайса, который писал, что в статье «Читая Ленина» содержится просто ниспровержение одного культа с помощью другого культа, а глубокого анализа Ленина тут нет. Но, видите ли, мы не можем требовать от Солоухина глубокого анализа. Это Аксаков мог сочетать в себе славянофильские взгляды (тогда ещё ранние, едва оформившиеся у старшего Аксакова) и «Записки об уженье рыбы». Это он мог. А уже более поздние люди — либо быт, либо мыслители. И мне кажется, трагедия Солоухина была в том, что этот прелестный в сущности, в замысле человек всё время отвлекается на мудрствования вместо того, чтобы просто описывать то, что…
Знаете, с кем бы я его как-то сопоставил? Вот был такой Константин Васильев, большую статью о котором, одну из первых своих в своих «Камешках на ладони» разместил Солоухин. Это был замечательный художник. Я знаю, сколько на меня сейчас набросится народу, которые будут утверждать, что Константин Васильев был художник гениальный, что созерцание его картин может пьяницу превратить в трезвенника — вот все эти примеры из книги отзывов, которые приводит Солоухин. Ну, Константин Васильев был просто очень хороший рисовальщик, получше Ильи Глазунова, я думаю, но мыслителем и философом никаким он не был. Да, действительно он увлекался такой фашистской эстетикой. Всякие эти тяжеловесные Брюнхильды, северные пейзажи, волхвы с филинами — это такой русофашизм, который был довольно широко распространён среди самых маргинальных языческих сборищ 70-х годов. У Константина Васильева же была знаменитая картина, рисунок, где Илья Муромец сбивает кресты с православных церквей. Он воспроизведён был тогда в журнале «Синтаксис» и подробно проанализирован. Это такая апология язычества, архаики, неофашизма. И всё это очень скучно.
Но это не делает Васильева плохим художником. Он был именно замечательный потенциально иллюстратор, очень хороший график. Ну, просто человек умел рисовать. И некоторые его картины — скажем, «Лесная готика» или «Окно», даже тот же «Человек с филином» — они производят некоторое впечатление. Это такая сказочная, фэнтезийная Русь. Ну, можно долго говорить о связях фэнтези и фашизма (особенно заметных на примере одного известного реконструктора-реставратора, большого сочинителя фэнтези и любителя славянства), но Васильев ценен нам не своим идеологическим наполнением, а тем, что он умел хорошо рисовать. Примитивно. Может быть, это кич. Может, там есть пошлость. Но есть у него и замечательные рисунки.
И вот Солоухин, когда он описывает мёд в замечательной книге «Мёд на хлебе», или грибы, или мясо, или картошку, или пейзаж (просто вот этот росистый пейзаж начинающейся осени — с паутинкой, с туманом, с холодным, коричневым, как заварка, прудом, с берёзой над ним) — вот здесь ему нет равных; это ткань мира. Но в своей философии он враг этой ткани, он отрицает её, разрушает её. И поэтому мне кажется, что рак-то с ним случился потому… А сейчас ведь доказана связь между онкологией и психологией. Тоже это немножко оккультная такая идея, но тем не менее она доказана статистически, и об этом сейчас много пишут. Так вот, мне кажется, что его съела, его разъедала всегда вот эта внутренняя трещина, это несоответствие между светлой, гедонистической и аппетитной природой его дара и страшными мыслями, человеконенавистническими мыслями, которые постоянно у него возникали.
Что я из него рекомендую читать? Ну, «Капля росы», безусловно, из всех лирических повестей, я думаю. И «Терновник», и «Просёлки» — они сохранили своё очарование. Это читать, конечно, стоит. Любому подмосковному жителю… А я сейчас я приехал как раз с дачи, и там грибов страшное количество! Заходишь на любую опушку — и там несколько белых, подберёзовиков и даже редких (по нашим временам) подосиновиков тебе гарантированы. Это просто настольная книга любого грибника.
И, конечно, «Чёрные доски» — это замечательное пособие для любого, кому интересно… не понять иконопись, нет, а понять, каким образом русский народ так долго у себя всё это отнимал, как он позволил… Понимаете, ещё у Жигулина были страшные стихи о монастырях, в которых сжигали древние книги: «Да что ж вы наделали, братцы! // Да как же вы это смогли?!» Вот Солоухин больше, чем своей публицистикой, заставляет этой книгой задуматься, как это русский народ настолько не уберёг своих шедевров и своей исторической памяти. Я думаю, что вообще одна из главных бед русской литературы — что она больше рассуждает, чем показывает. И когда родится вдруг человек с таким светлым даром именно показывать, именно с даром изобразительности, которую нельзя было из него выбить никакой советской школой, никакой критикой, никаким литинститутом, вот тогда такому человеку надо потратить силу на фиксацию красоты Божьего мира, а не на попытки выстроить какие-то историософские концепции.
Тут сразу меня спрашивают, действительно ли Солоухин подвергался травли. Ну, травля не травля, но в начале 80-х годов действительно были некоторые попытки со стороны Суслова слегка окоротить так называемую «русскую партию». Тогда вышел абсолютно антисемитский роман Пикуля «У последней черты» (сейчас он называется «Нечистая сила»). Сейчас этот роман считается вершиной его творчества. Тогда его довольно сильно разгромили в «Правде» за антисемитизм и за сальность.
Тогда же действительно и Солоухину слегка начало прилетать за идеализацию царской России, за идеализацию религии и попытку её оправдать, за заигрывание с Богом — и в ход пошли ленинские цитаты. Конечно, критика эта была отвратительной. Но ведь дело в том, что «русская партия» сама всегда претендовала на то, чтобы быть государственной идеологией. Созданная под руководством Павлова и Ганичева и поддержанная Лобановым в «Молодой гвардии» и в «Нашем современнике», она всё время претендовала быть государственной идеологией, причём с очень репрессивной программой. Поэтому то, что партия отказалась от этой чрезмерной услужливости, всё-таки характеризует её лучше, чем так называемую «русскую партию». Но повторю: к Солоухину это не имеет никакого отношения. Его прекрасные тексты, посвящённые прелести мира, можно перечитывать, я думаю, без всякого ущерба для себя. Более того, всем, кто страдает отсутствием аппетита, я бы это чтение глубоко порекомендовал.