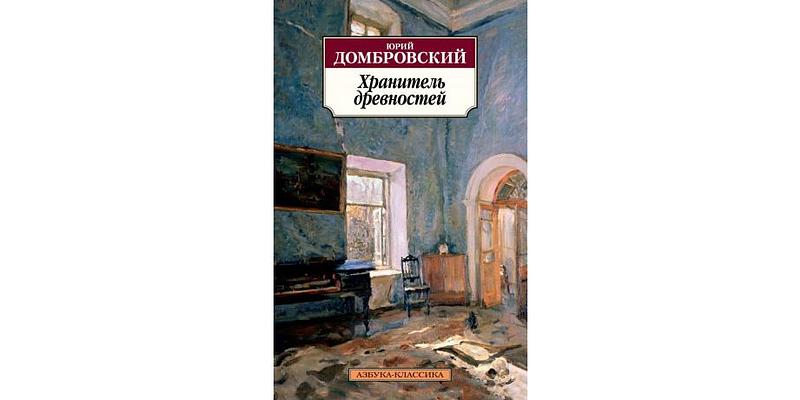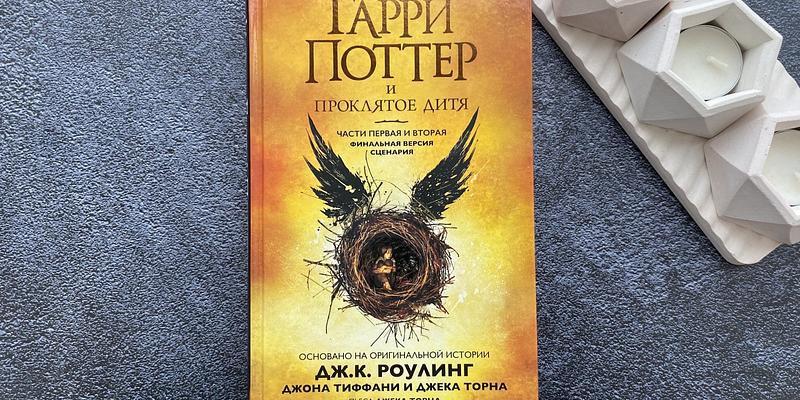Ну, поговорим о стихотворении Елены Тагер. Эпиграф из Веры Пановой: «Хватит с нас этой возни с реабилитированными». Эти слова приписываются Вере Пановой. Ну, многие слышали, что она на одном из писательских заседаний в 1959 году сказала эти слова. Я потом вернусь к тому, почему они Веру Панову на самом деле в моих глазах никак не пачкают, не порочат. Вера Панова свою чашу выпила, и она один из моих любимых писателей, но были у нее и страстные обмолвки. Ну, человек под горячую руку чего не скажет: «Двадцать лет спустя».
Ну, правильно! Хватит с вас этой возни.
Да хватит и с нас, терпеливых,
И ваших плакатов крикливой мазни,
И книжек типически лживых.
Не выручил случай и Бог нас не спас
От мук незаслуженной кары…
А вы безмятежно делили без нас
Квартиры, листаж, гонорары.
Мы слышали ваш благородный смешок…
Амнистии мы не просили.
Мы наших товарищей клали в мешок
И молча под сопки носили.
Задача для вас оказалась легка:
Дождавшись условного знака,
Добить Мандельштама, предать Пильняка
И слопать живьем Пастернака.
Но вам, подписавшим кровавый контракт,
В веках не дано отразиться.
А мы уцелели. Мы живы. Мы факт.
И с нами придется возиться.
Это блистательное стихотворение, которое, конечно, если начинать, так сказать, по-жолковски, с семантического ореола метра, имеет очень богатую гражданскую традицию. Конечно, «Прощай же, товарищ, ты честно прошел свой доблестный путь благородный» — это восходит, конечно, к революционной поэзии. Это реквием, некролог. «Мы сами, родимый, закрыли орлиное очи твои». Всё это, опять-таки, довольно распространенное явление.
Амфибрахий вообще всегда размер бесплодного усилия. Накат, удар, откат — та-да-там. И почти все примеры амфибрахия в русской литературе сводятся к этой теме — теме бесплодного или трагического усилия, или несостоявшейся победы. Торжественное звучание этих стихов не должно никого обманывать. Конечно, мы уцелели — это не победа. Мы живы, мы факт, и с нами придется возиться — ну а что за радость, что они будут с нами возиться? Проблема в другом: возиться с нами — значит, признавать нашу историческую правоту и вашу историческую катастрофу, ваше поражение.
Почему Вера Панова не кажется мне достойным адресатом этого стихотворения? Хотя обращено оно, конечно, не к ней. Панова вообще была человек отнюдь не той сталинской идейности, отнюдь не той правоверной коммунистической идеи, которую ей иногда приписывают. Вера Панова — серьезный писатель. Писатель с потенциями великого.
Ее сказка «Который час?», написанная в оккупации, не только антифашистская — она антитоталитарная вообще. Она при жизни так и не смогла ее напечатать, хотя в 1952 году в собрание сочинений ее готовили. Но она была напечатана в 1982 или, кажется, в 1981, в «Новом мире». И для меня этот роман-сказка был таким откровением, такой мощный прорыв это был!
Вообще Вера Панова блистательный писатель. Женщина, которая безмерно любила своего мужа. Которая потеряла своего мужа Вахтина в лагерях. Ездила, пыталась его вызволить. Его там убили после ее первого визита. Вот она не сумела его уберечь. Она говорила, что это был самый солнечный, самый светоносный, самый талантливый человек в ее жизни.
Потом она была под оккупацией и написала об этом прекрасную пьесу. Потом она по оккупированной территории из Ленинграда (тогда еще была возможность уйти) сумела добраться до Украины и там спастись. Она шла с малолетним ребенком и сумела ее как-то вытащить. И потом, когда освободили это украинское село, где она жила, оно 2 года ездила в санитарном поезде, написала «Спутников».
Сталинские премии, которые она получала, были скорее эксцессом. Сталин ее любил, ценил. Она получила первую премию еще в 1940 году на всесоюзном конкурсе пьес за вполне соцреалистическую драматургию. Но дело в том, что любовь Сталина к повести Пановой «Спутники» — это скорее случайность. Она тогда проскочила, проскользнула так же, как сумела проскользнуть «В окопах Сталинграда» — в достаточной степени чудом.
Разумеется, любовь Сталина к соцреализму и соцреалистам достаточно сильно преувеличена. Настоящего реализма он терпеть не мог. Он мог терпеть такой приглашенный реализм, как у Галины Николаевой в «Жатве». Уже в следующем своем романе «Битва в пути» она сумела больше сказать о системе, потому что она всегда очень глубоко врабатывалась в тему. Но «Жатва» — это еще такой соцреализм с человеческим лицом, приятный Сталину. То есть вы будьте с нами поласковее, и мы будем всегда с вами добры, будем вас любить.
Но, конечно, Панова, по сути своей, человек не сталинской эпохи. Из ее сентиментального романа о ее ростовской комсомольской юности совершенно понятно, что она человек 20-х годов. И сталинизм был ей, конечно, отвратителен. Поэтому всякого рода «Кружилиха» — это скорее такая вынужденная уступка эпохе. А «Времена года», которые она, кстати говоря, переписала потом — это роман уже абсолютно антисталинский по духу.
Понимаете, почему Панова не была сталинисткой? Потому что ей присуще было стилистическое изящество. Потому что ее проза (именно поэтому, кстати, столь киногеничная), проза, из которой выросла, я уверен, и литература Грековой, и литература Нилина, и во многих отношениях Довлатов, который был литературным секретарем Веры Пановой в ее последние годы — это, безусловно, чудо стилистического изящества, противостояния точности сталинской размытости, рыхлости, безвкусице.
Но Панова, как все люди, которые жили в непрерывном состоянии внутренней борьбы, Панова — между прочим, жена известного ленинградского модерниста и уж явно диссидента Давида Дара — жила в состоянии непрерывного внутреннего конфликта. Ее раздражение, которое у нее прорвалось («Хватит с нас этой возни с реабилитированными!») — это следствие двух вещей.
Во-первых, с одной стороны, это понимание, что она сама прошла репрессии. И когда мужа потеряла, и когда была на оккупированной территории, и потом всю жизнь от этого отмазывалась. Но самое главное — это следствие внутренней раздвоенности, когда она говорила одно, думала другое, а писать должна была третье.
Такие вещи, как «Мальчик и девочка», или «Конспект романа», или как ее замечательная мемуарная книга, продиктованная уже после инсульта — это всё автоэпитафии. И это не советская литература совсем — по точности, по четкости, по уму.
У нее поэтому, понимаете, был такой изумительный стиль и такой гениально четкий почерк, который не изменил ей даже после инсульта, после паралича. Правой рукой она по-прежнему писала каллиграфически. Вот эта каллиграфическая проза — это просто говорит о том, что эта ее реплика, продиктовавшая эти стихи — это было следствие самоненависти, а вовсе не просто презрения к реабилитированным. Вот это очень важно понимать.
Значит, что мне хотелось бы особо сказать о стихотворении Тагер? Елена Тагер, современница Блока, пожалуй, в некотором смысле его ученица, одна из последних, кто его знал, кто слушал его и кто говорил с ним — она несла в себе наследие Блока. У Блока было вот это умение приветствовать перемены, которые тебя убьют.
Елена Тагер с самого начала понимала, что советская власть ей не сулит ни счастья, ни побед, ни литературного признания. И когда она была арестована, она понимала, что крестный путь русской интеллигенции она проходит вместе со всеми, и что у этой прослойки вариантов не было, не было другого пути. Это очень страшно, конечно. Но понимала она прекрасно и то, что с конечной ее правотой эта история ничего не сделает.
Поэтому «Мы уцелели, мы живы, мы факт» — это не манифест выживания. Это манифест того, что свет в окне светит, и тьма не объемлет его. Это манифест того, что правда, в принципе, всегда себя скажет, что она неубиваема. Поэтому то, что «мы наших товарищей клали в мешок и молча под сопки носили» — это не было свидетельством исторического поражения. Вот что важно. Самое страшное для интеллигента — это утратить сознание своей правоты, по Мандельштаму. Впасть в ересь исторической вины.
Стихотворение Тагер ценно тем, что оно утверждает правоту репрессированных. Что она настаивает на правоте униженных. Что она, вернувшись, не испытала стокгольмского синдрома. Что она не почувствовала мелких гадких благодарностей. Нет, она понимает, что она права. Что и Бог, и время осудит доносчиков и палачей. То есть у нее нет вот этой унизительной благодарности. Многие правоверные коммунисты, вернувшись из лагерей, приняли восстановление в партии. А Тагер коммунисткой никогда не была.
И Тагер понимала на самом деле, что ничего не изменилась, что зверства продолжатся. Что продолжается эпоха уничтожения, зверства. И хрущевское время не привело к катарсису. Оно было временем большого шока для общества, но это не было временем послабления. Продолжалось уничтожение думающих, продолжались репрессии, продолжалась конъюнктура.
И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.
Это писал Пастернак обо всём этом. Тут правильно «слопать живьем Пастернака» — это сказано еще при его жизни. Но Тагер прекрасно понимала, что люди не изменились, не сделались лучше, и ни о какой новой власти, ни о какой новой парадигме говорить не приходится. Вот в этом, конечно, особенное величие этого стихотворения.
Но еще величие его величие в том, что Елена Тагер сумела ни в чем не отступить от правил добрых нравов литературы, как называла это Ахматова. Для нее борьба за листаж по-прежнему остается унизительной. Для нее «типически лживые книги» по-прежнему омерзительны. Человек, который прошел через лагеря, через Магадан, через Колыму и не признал ни в чем, не принял ни на секунду этой лжи — это достойный нам, сегодняшним, пример. Вот к вопросу о стихотворениях Домбровского. Помните, у него в гениальном стихотворении, самом известном «Меня убить хотели эти суки»:
И вот теперь я возвратился в мир,
Который так причудливо раскрашен.
Гляжу на вас, на тонких женщин ваших,
На гениев в трактире, на трактир,
На молчаливое седое зло,
На мелкое добро грошовой сути,
На то, как врут, как нагибают, крутят,
И думаю: как мне не повезло!
Это совершенно гениальные стихи, но гораздо более горькие, чем у Тагер, потому что для Домбровского его торжество под вопросом. Не повезло, потому что всё это время он мог бы быть частью этой литературы, мог бы спасать ее честь, а он всё это время провел в лагере или в больнице с пеллагрой. Всё это время он пытался сохранить себя. На эти 20 лет (отсидел он 10, да вместе со ссылкой 20) он был вычеркнут из литературы. И это не для него было хуже — он свое написал. Для литературы это было трагедией. И думаю, как мне не повезло — как нам всем не повезло, потому что нам не дали сделать того, что мы должны были сделать.
И вот это два разных подхода. Для Тагер это, безусловно, ее моральная победа. А для Домбровского победа его, конечно, в том, что он выжил и что он победил этих сук. Но само существование этих сук — в известном смысле приговор человечеству. Поэтому взгляд Домбровского на вещи не то, чтобы более трезв — он более насмешлив и более жесток.
Ну и, конечно, стихи Домбровского лучше, хотя стихи Тагер по эмоциональному накалу и по виртуозной форме своей тоже чрезвычайно значительны. Это нам всем напоминание о том, что правда — она как шило. Ее в мешке-то не утаишь, она напомнит о себе. Правда, стыдно, конечно, никому не будет — это верно. Но с другой стороны, катаклизм, в результате которого прозвучит это правда, может быть таким, что, может быть, кто-то что-то и поймет. Ну а в следующий раз мы с вами увидимся уже лично, очно, и меня это очень радует.