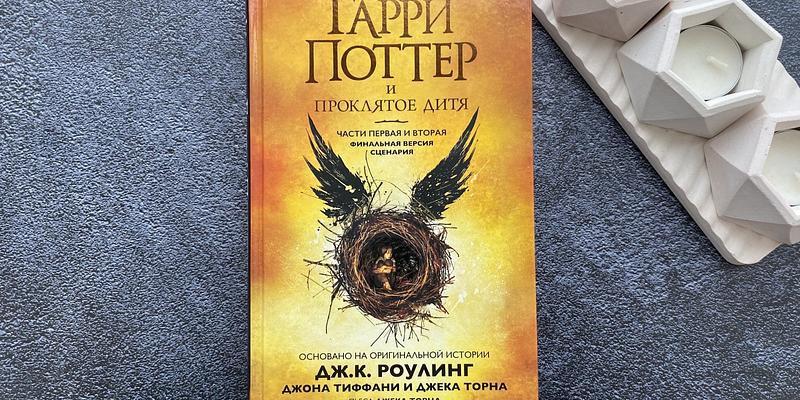Вы не поверите, но главной добродетелью этих двух авторов, которые считались глубоко советскими, мне кажется стиль. Ну, в случае Пановой это более отчётливо, потому что именно почерк каллиграфический, почерк её прозы, такой же изящный, как её собственный почерк в жизни,— это, конечно, первое, что бросается в глаза. Но и Нилин тоже… Нилин ведь прославился впервые как сценарист «Большой жизни». И потерпел как сценарист «Большой жизни», потому что вторая серия картины была фактически положена на полку и подвергнута разносу начальственному (одна из лучших работ Лукова). А что касается настоящей славы, поздней, которая пришла к нему в пятидесятые годы, она была связана главным образом с его повестями «Жестокость» и «Испытательный срок», особенно «Жестокость».
Венька Малышев, которого в фильме сыграл Юматов, и сыграл, по-моему, слишком старым, слишком жёстким, Венька Малышев — один из самых очаровательных персонажей советской историко-революционной прозы. Вот тот Лазарь Баукин, которого он спасает, вот этот запутавшийся мужик, огромный, рыжебородый, которого он совсем уже привёл на нашу сторону? Но потом тщедушная личность — Узелков с огромным носом — он вмешался. И Баукина уничтожили. А Венька застрелился ведь именно потому… Помните? Очень западает в память эта толстая струя крови, которая хлещет из его виска. Венька застрелился потому, что он дал Баукину слово и этого слова не сдержал (не по своей вине).
Малышев — это носитель того советского гуманизма, который был и в который многие верили. Ну, точно так же, как лейтенант Княжко у Бондарева, который в «Береге» выступает против того, чтобы мстить рядовым, мирным немцам. Гранатуров, например (есть там такой капитан или майор, по-моему), вот он за то, чтобы додавливать немцев мирных, уничтожать: «Наших там!.. А мы здесь?..» Ну, это такое оправдание собственного зверства, иногда — похоти. Княжко — другой. И герой Бондарева, конечно, колеблется в нравственном выборе, но всё равно он за Княжко однозначно.
Так вот, идея советского милосердия, советского гуманизма в «Жестокости» поставлена с замечательной остротой. Конечно, сильно в этой повести то, как она написана. Написана она прекрасной, разговорной, плотной, живой речью, с замечательным владением диалогом. Это то, что есть у Нилина как сценариста. Нилин начинал как очеркист (как и Панова, кстати). Он был журналистом в тридцатые годы, журналистом ничего особенного, в общем, из себя не представлявшим.
Вы не поверите, но даже мой любимый писатель Александр Израилевич Шаров — отец Владимира Шаров, гениальный сказочник и прекрасный, кстати говоря, романист — он ведь тоже начинал как журналист. И его очерки о Корчаке, которые печатал Твардовский в «Новом мире», уже в шестидесятые годы составили ему славу, или полемические статьи об образовании. А начинал он как журналист, описывающий арктические зимовки, всякие другие экстремальности тридцатых годов. Это хорошая закваска. Это я говорю не для оправдания собственной журналистской школы. В конце концов, из большинства журналистов писатели всё-таки не получаются, сколько они ни стараются. Но это потому, что всё-таки журналистика, ну, какого-то писательского мастерства — эффекта присутствия, скорости, непосредственного воздействия — она требует. Поэтому пусть эти задатки не все развивают, но они есть.
И вот у Нилина была удивительная точность, лапидарность слога, живость, энергичность, замечательная, очень присущая журналисту способность к передаче чужой речи. В этом смысле, пожалуй, его рассказ, написанный от лица героя, «Мелкие неприятности» или столь же значительный рассказ «Дурь» — вот я помню просто шок от них, потому что речевая маска, речевой портрет создаются безупречно. Мне кажется, что «Дурь», которую экранизировал Хейфиц под названием «Единственная…»,— один из самых точных (именно в смысле портрета речевого) рассказов 60–70-х годов. Нельзя не назвать «Тромб», который сохранился, замечательный рассказ в авторском чтении.
Ну, вот на «Мелких неприятностях» — удивительное дело!— мы сошлись всё с тем же знатоком советского кино и советской прозы Евгением Марголитом, потому что рассказ на самом деле потрясающей мощи. Я не буду его пересказывать. Он короткий совсем, почитайте. Он от лица таксиста. Ему 50 лет. Действие происходит в конце шестидесятых, даже, может быть, в семидесятые. Это рассказ, по-моему, 1971 года.
Короче, во время войны был он мальчишкой. И там прячутся они с сестрой в развалинах собственной хаты, прячутся от немцев. Сосед подкармливает их сначала жижей для свиней. Ну а потом свинья заболела, и чтобы проверить, можно ли её есть, он кусок этой свинины скармливает этому оголодавшему, еле живому ребёнку, и смотрит: если ребёнок не помрёт, то значит свинью можно есть и ему с женой, а если помрёт, то значит — не судьба.
И когда он ему об этом рассказывает, этот Иван Демьянович, по-моему, или Прокопьич … Не помню, как его там зовут. Старик этот. Когда он в подпитии об этом рассказывает, все присутствующие рядом друзья и гости… А он гостей собрал. Ну, как же? Он спасителя встретил! Друзья и гости говорят: «Да он же на тебе проверял! Если бы ты помер, он бы… Ну, просто это был его тест такой». И тот говорит: «Знаешь, вне моего дома делай с ним что хочешь. А дома у меня смотри на него, как будто он — картина в Третьяковской галерее. Потому что он — по тем ли мотивам, по другим ли — он мне жизнь спас!» Ну, там в конце идёт пассаж про мелкие неприятности.
Но это рассказ с гениальной, очень глубокой и сложной проблемой. Должны ли мы прислушиваться, присматриваться к мотиву человека, который нас спас? Должны ли мы быть благодарны тому, кто спас нас из дурных, из омерзительных побуждений? Это тоже одна из проблем. Но главная проблема — конечно, это ещё и отчасти тот стокгольмский синдром, которым все больны, когда человека, который чуть тебя не убил, ты готов рассматривать как спасителя своей жизни. Обстоятельства так сделали, что он для тебя спаситель.
Жестокий очень рассказ. Там много страшного и есть о чём подумать. Мне кажется, что я усматриваю там даже некоторую отсылку к возможности людоедства, такую антропофагию. Нилин не обо всём, конечно, прямо говорит, но как намёк это там присутствует — девочка там пропала бесследно. Но вообще эта тема мира, в котором нравственные критерии отменены, потому что в условиях выживания они отсутствуют,— это нилинская история, и у Нилина она замечательно решена. И поздние его рассказы — рассказы уже семидесятых годов, такие как, например, «Впервые замужем», из которого сделан был замечательный фильм, по-моему, с Глушенко, если я сейчас ничего не путаю,— это тоже выдающаяся проза.
Что мне кажется важным? Что делает прозу сценарием. Проза становится сценарием тогда, как правильно совершенно сказала Виктория Токарева, если есть в ней вот эта такая телескопическая логика (да, Глушенко, правильно), телескопическая логичность, когда одно событие с неизбежностью вытекает из другого, это как удочка. И вот Токарева права. В обычной новелле этого может не быть. И даже более того — чем как бы несинхроннее, чем в каком-то смысле алогичнее мотивы её, чем они пестрее, тем это лучше для рассказа, это придаёт ему такого сновидческого очарования.
В кино чаще всего, а особенно в кино жанровом, сценарий этого себе позволить не может. И в поступках героев Нилина, в развитии фабулы всегда есть абсолютная логика: если ружьё висит, оно всегда стреляет. Это очень стройная, строгая, чёткая проза, она именно безупречно выстроена. Даже если речь идёт о таких алогичных ситуациях, как любовь, как, например, в «Дури», всё равно мы с самого начала понимаем характер героини и понимаем, что эта женщина — такой типаж довольно распространённый в шестидесятые годы, женщина, которая не знает, чего она хочет,— она сломает жизнь простому и доброму герою. Ну, в картине это был замечательный дуэт Прокловой и Золотухина, а соблазнителя играл Высоцкий, хотя он там по сценарию противнее и старше вдвое.
У Пановой всё-таки иная природа таланта. У неё есть замечательная повесть «Конспект романа», даже рассказ в сущности. Она автор таких прекрасных новелл, как «Серёжа». Несколько набросков замечательных у неё в прозе шестидесятых годов, где она именно пересказывает конспекты прозы, а не какие-то законченные идеи. Хорошо, лучше всего написана у неё первая книга с неожиданной какой-то силой — «Спутники». Непонятно, как она получилась у дебютирующего автора.
Ну, строго говоря, самая первая её книга — это «Который час?» — вообще фантастически прекрасное произведение, сказочная повесть, которую она придумывала, идя по оккупированной России из-под Ленинграда к своим украинским друзьям и родственникам. Пришла, как-то сумела пронести ребёнка. И всё это время, чтобы не сойти с ума, она импровизировала для ребёнка сказку о фашизме. Вот эта сказка «Который час?» — это какое-то чудо на самом деле! Это вещь силы шварцовского «Дракона». Она не могла быть напечатана при жизни Пановой. В 1962 году была анонсирована в её собрании и не попала туда. И в результате она её так и не увидела опубликованной. В 1981 году в «Новом мире» её напечатали. Я помню, какая это была сенсация.
Но, конечно, Панову-сказочницу мир не знал. Он знал её как прозаика и даже, может быть, бытовика, такого бытописателя. «Мальчик и девочка», вот такие… тоже, кстати, очень сценарный, очень кинематографичный. «Рабочий посёлок» — блистательный фильм Венгерова. Это именно сценарная проза, в которой две вещи обязаны наличествовать: узнаваемая речь героев и логика повествования. Сценарий не может быть неинтересным, потому что фильм обязан быть интересным, увлекательным. И вот пановская волшебная точность в передаче речи, языка, замечательная тонкость при описании самых простых бытовых ситуаций — это было в «Спутниках», в огромной степени это было во «Временах года», очень недурном романе, особенно во второй его редакции. Ну, у неё были плохие вещи, классический соцреализм такой: «Кружилиха», этот «Ясный берег», совершенно дикий, колхозный роман. Но вот «Времена года» с их детективной интригой, с их очень чётким ощущением оттепели — я думаю, это роман сопоставимый по своему значению с «Битвой в пути» (кстати говоря, такой же увлекательный).
Панова — не коренная ленинградка, она ростовчанка — она с изумительной силой сумела описать такой Ленинград окраин, Ленинград рабочий, заводской. Вот это то, что Попов называет «солоноватой струёй в Неве», такой действительно какой-то солоноватой, подпочвенной водой. Действительно, «Ленинград как город великой культуры» — ну, это пресная такая тема, многократно описанная. А вот Ленинград окраинный, Ленинград пролетарский, рабочий, Ленинград спальных районов, детских садов, фабрик, хлебопекарен, вечерних школ — вот это среда Пановой, её материал. И этот быт — быт Петроградской стороны — она знает и чувствует прекрасно.
Я уже не говорю о том, что прозе Пановой присущ такой, я бы сказал, хмурый, нерадостный, горьковатый гуманизм. Ей люди часто противны, но ей людей жалко. Кроме того, к сильнейшим страницам её прозы принадлежит её автобиографическое повествование, дописанное ею в последние годы, уже после инсульта, частично додиктованное. Панова ведь начинает эту книгу с очень страшной фразы: «Я родилась в 1905 году,— по-моему,— и умерла в 1968 году, когда меня сразил инсульт. После этого моя жизнь превратилась в доживание». Но она сумела написать тогда великую книгу.
А самые великие её страницы — это её поездка к мужу Вахтину, который был арестован и к которому она два раза сумела приехать в заключение, его навестить. Непонятно, как она этого добилась, но добилась. И его убили там, он умер, погиб ещё до войны. Вахтин, когда она о нём пишет… Ну, это самые пронзительные её страницы! Она пишет, что когда шёл этот человек и она видела его волосы в ореоле солнечном, стоявшем, как нимб, над его головой, то это шло такое воплощение счастья. Она безумно его любила!
Вообще, в жизни Пановой было несколько мужчин замечательных. И последний её муж Давид Дар — один из важнейших людей литературного Ленинграда, руководитель замечательного литобъединения, где и фантасты, и очеркисты, и поэты были. Это замечательные люди. Но вот такой любви, такой откровенной любви, как в рассказе о Вахтине, я нигде больше в советской прозе не встречал просто, уж поверьте мне. Не говоря о том, что описания эти — ну, как она там едет с цыганским табором, который едет навещать своего барона, тоже сидящего, с множеством других репрессированных в общем вагоне, как она дожидается в этой зоне (по-моему, тоже в Мордовии, где-то там, если я не путаю ничего), вот это описание этого абсурдного страшного путешествия, это счастье вопреки всему, когда она видит мужа, не сломленного она видит, и ей это очень важно,— это, конечно, поразительные, горькие, угрюмые, страстные строки! Вот всё-таки Вера Панова — это мастерство блестящей лапидарности, чёткости и невероятного таланта самосохранения. Вот всем, я просто советую: откройте «Который час?» и прочтите. Эта книга надолго станет вашей любимой.