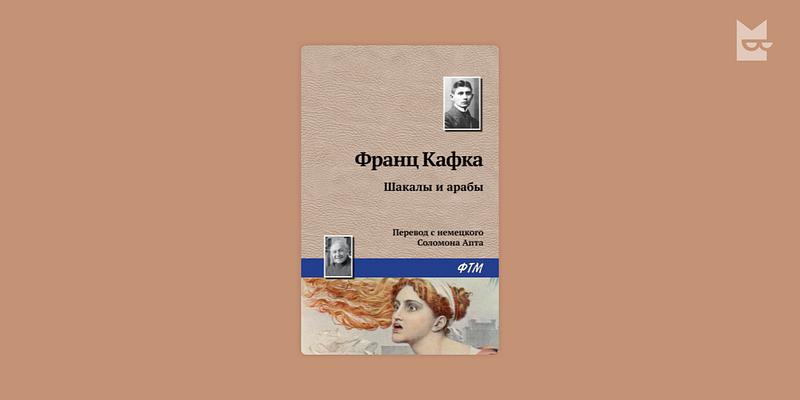Мизантропия — состояние для художника почти нормальное, многие художники были мизантропами, и их это не портило. Насчет антисемитизма — я никогда не сталкивался с антисемитизмом Балабанова, но допускаю… я вообще с ним редко сталкивался, с Балабановым… я допускаю, что у него были такие заблуждения. Я не могу вообще признать, что антисемитизм присущ бывает умному человеку. Это все-таки стыдная болезнь, хотя болезнь духа, безусловно. Но она, как правило, не свидетельствует об интеллекте; как правило, она свидетельствует о каких-то застарелых травмах. Но в случае Балабанова мне это неинтересно. Балабанов в любом случае художник. Конечно, он не слишком сильный сценарист, как мне кажется; и я уже говорил о прямом влиянии Ремарка на него, да и, кстати, не я первый это говорил, после «Мне не больно», после «Войны»… Да и у него очень много параллелей и с любимыми авторами, которых он читал в детстве,— в этом смысле у него очень интеллигентские вкусы.
Но визуальная культура, умение передавать тоску и злобу, очень точное отражение реалий, великолепные, как правило, концовки, да и вообще, хорошее знание европейской культуры (в частности, Кафки; я думаю, что «Морфий» — это, скорее, экранизация «Сельского врача», нежели булгаковских новелл),— это все говорит в его пользу. И потом, понимаете, мы же видим сейчас массу людей, которые пытаются снимать «как Балабанов». Не то что снимать в его духе, но пытаются работать на его поле, на его материале. Тут и Сигарев, тут и Юрий Быков. И у них не получается так, как у Балабанова. А у Балабанова есть свой почерк.
Вот этот проезд через промзону под «Мой маленький плот» — это лучшие три минуты, которые были вообще в постсоветском кинематографе. Притом, что я гораздо больше люблю Велединского; притом, что мне гораздо интереснее Лопушанский; да даже у Снежкина есть большие удачи, хотя, на мой взгляд, Снежкин остался даже не в 90-х, а в 80-х где-то, но художником самым ярким для нулевых годов и десятых, самым прямым выразителем того, что происходило, был Балабанов. И мне совершенно не важно, какие эмоции руководили Балабановым, когда он снимал «Груз-200»: было ли это отвращение к Советскому Союзу, было ли это отвращение к нынешней России, было ли это отвращение к самому себе? Мне важно, что он в «Грузе-200» выразил нынешнее состояние страны, и выразил это без злорадства, а с мукой, и мука эта дорогого стоит. В конце концов, его ранняя смерть показала, чего ему стоила его работа.
Влияние Джармуша очень было велико, на мой взгляд, особенно влияние «Мертвеца». Собственно, «Брат» — это и есть «Мертвец» по-советски, и мне кажется, что Бодров — это такой русский Джонни Депп, такой универсальный, загадочный, энигматичный персонаж, и существование Данилы Багрова — это посмертное существование и его, и города. То, что американцы назвали бы «Мертвецом», мы назвали «Братом». Такая могла бы быть картина: «Никогда не прогуливайтесь с братом». Потому что он и ведет в некотором смысле посмертную жизнь, как тот, помните, пустой трамвай, который ездит, а содержания лишен. Контур, идея, shape трамвая, но не трамвай как таковой.