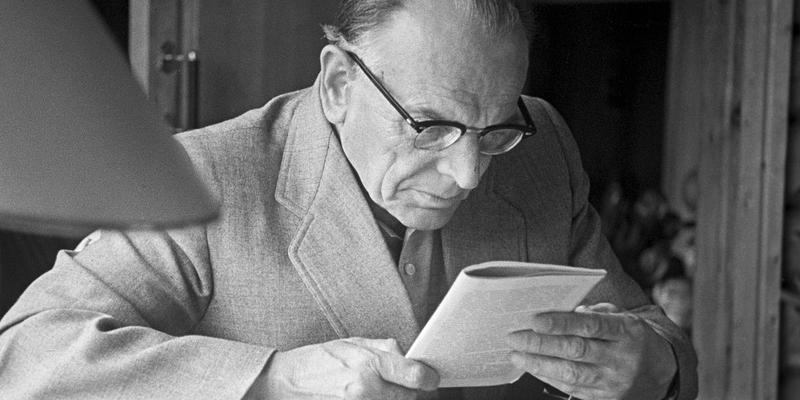Это как раз три автора, которые являют собой три грани, три варианта освоения пространства в русской прозе, прежде всего семидесятых годов. Понимаете, ведь для Советского Союза — вот такого типичного модернистского проекта — очень характерен был гумилёвский конкистадорский пафос: пафос освоения новых пространств, пафос проживания экстремальных пограничных ситуаций, огромного напряжения, странствия.
Естественно, тут романтический герой, который ещё, как правило, и альпинист, и одиночка; и в личной жизни у него всегда не ладится, потому что вот такой он романтический бродяга, а женщинам ведь всегда хочется уюта, и он может поладить только со скалолазкой, а с женщиной обычной, которая всё время пытается его как-то ребёнком или бытом привязать, он не уживается. Это уже как раз коллизия Визбора, которую он в своей прозе отыгрывал — например, в «Завтраке с видом на Эльбрус». Но он не так много на самом деле написал, и поэтому рассматривается здесь скорее как фигура маргинальная.
Тут возможны именно три варианта, три похода. Первый — куваевский. Куваев прожил всего 40 лет, но тем не менее «Территория» на долгое время осталась… Я не скажу, что это «наш Мелвилл», но она осталась образцом так называемой геологической прозы. Тут есть заветная советская тема господства над природой. Советская власть — она вообще ведь очень природная по определению, она, как и природа, беспощадна, она бесчеловечна, она требует от человека природных качеств, а именно очень высокого выживания и некоторого такого морального релятивизма (природа ведь вообще имморальна).
Но у героев Куваева, во-первых, есть действительно ныне полузабытый пафос радостного познания мира. Отсюда там эти вставки, которые назывались «всестороннее описание предмета», это всё о золоте — об истории его добычи, о том, как оно стало всеобщим ценовым эквивалентом. И я помню, что было не достать эти три номера «Нашего современника» с «Территорией», потому что там самое интересное было читать, конечно, не про прииск, а вот про золото как некоторую философскую систему, как символ. И интересно, что для Куваева золото не было символом богатства, оно для него скорее было символом истины, которую человек вот так вот добывает в своих рискованных странствиях.
По большому счёту все три этих автора вышли, конечно, из Паустовского, потому что Паустовский — это такой как бы советский вариант Грина, гриновская романтика, но без гриновского авантюризма, с тем же пафосом советского освоения пространства. «Чёрное море», «Колхида», «Кара-Бугаз» — вот эта знаменитая трилогия Паустовского, из неё все они вышли. Это и любование природой, и борьба с ней, и воспевание мужества полярного и геологического.
Вот для Куваева это было такое философское странствие, такой поиск себя и одновременно попытка испытать, выстроить, оценить этого нового советского героя, как-то его подвергнуть всестороннему анализу. Потому что, с одной стороны, этот геолог — любимый персонаж шестидесятых годов — он уже, например, у Киры Муратовой в «Коротких встречах» обнажает какую-то свою слабость, свою полную неприспособленность к жизни: странствовать он умеет, а жить — нет, брать на себя ответственность за других — нет. Я думаю, окончательно этот тип был развенчан у Астафьева в «Царь-рыбе», где появляется Гога, вот такой бродяга, который тоже ни за кого не способен отвечать, и к природе он относится совершенно хищнически.
Между тем, уже в большинстве фильмов шестидесятых годов этот образ геолога, строителя, исследователя тайги, полярного исследователя, в фильме «Вертикаль» например(и Высоцкий, кстати говоря, именно в этом направлении работал, когда его стали знать как артиста), этот образ пока ещё представляется едва ли не идеальным. Обратите внимание, что Высоцкий сыграл и в «Карьере Димы Горина» (там у него эпизодическая роль), и в «Вертикали», и в «Коротких встречах» — во всех фильмах, где постулировался вот этот образ такого отважного искателя приключений.
В чём его прелесть и почему он симпатичен? Он симпатичен прежде всего тем, что он не приемлет рутины, не приемлет быта, он хочет героизма. Конечно, эта жажда героики довольно инфантильная, но вместе с тем в ней есть шестидесятнический протест против обывательщины. И в этом смысле я скорее «за», я скорее люблю этот персонаж, хотя он был не глубок очень. Вот Куваев впервые попробовал его философски, что ли, осмыслить, посмотреть на него как на искателя истины, как на искателя такого Эльдорадо.
Санин, наверное, среди этих авторов наиболее беллетрист. Хотя у него была очень славная вещь «Белое проклятие», увлекательная, но дело в том, что Санин — это писатель классом пониже. Он не то чтобы забыт, он как раз довольно-таки активно перепечатывается, и в антологиях советской литературы, сейчас выходящих, в сериях книжных его полярные повести стоят довольно высоко. Другое дело, что как раз с точки зрения фактической достоверности и психологической достоверности Санин сильно уступает остальным. Я помню, в «Литгазете» была даже тогда обильная дискуссия о том, до какой степени у него натянуты эти его экстремальные ситуации, насколько они приблизительные.
Я до сих пор помню замечательную сцену из одной его повести, где герой вышел ночью из полярной станции… Не помню уже, зачем ему это понадобилось, но он провалился там в довольно глубокую ледяную расселину и чудом спасся, потому что на дне этой расселины оказалась забытая им лопата, и он с помощью этой лопаты вырубил там себе какие-то ступеньки. Помню, что мне уже тогда это показалось совершенно недостоверным, но всё равно очень увлекательным.
Ну а от Буссенара, от Хаггарда разве мы требуем достоверности? Когда мы читаем про этих европейских авантюристов, осваивающих Африку, нам интересно не это. Мы это читаем ради экзотики. Полярная экзотика у Санина была очень хороша. Остальные его вещи послабее. Довольно забавные у него, кстати, детские рассказы из книги «Когда я был мальчишкой».
А вот Конецкий — это самый интересный случай, потому что Конецкий в наименьшей степени конкистадор, он мыслитель. «Солёный лёд» или «Опять название не придумывается» — это же опыт такой бессюжетной, несколько, может быть, прустовской прозы. И для него как раз странствие (а он действительно настоящий моряк, настоящий капитан), как бы сказать, это попытка в полном одиночестве и в обстановке бесконечно длинного полярного дня при этом мёртвом свете рассмотреть себя. Конечно, все странствия Конецкого, ну, если не считать его довольно весёлых рассказов там про боевых товарищей, про боцмана знаменитого там, который всё там татуировки сводил, но это, если не брать сюжетные вещи его ранние, то для Конецкого это всё странствия вглубь себя, а не вглубь Арктики. И в этом смысле, конечно, он философ, мемуарист, создатель такого, понимаете, жанра свободного романа. Пожалуй, Конецкий — самый литературный и самый умный из этих авторов.
Я за что люблю всех троих и ещё нескольких, которые менее профессионально, менее удачливо в этом жанре работали? Я не могу сказать, что мне нравятся безумно вот эти ценности: борода, гитара, риск, бродяжничество, авторская песня, неприкаянность. Вот я не фанат всего этого. В этом очень много позёрства. Но я, вообще-то, к позёрам неплохо отношусь, потому что позёру не безразлично, как он выглядит и каков он на самом деле.
И хотя у всех этих ребят было очень высокое самомнение, очень много дешёвых понтов и очень мало глубины, в них есть вот то, за что я люблю советский период русской литературы,— это пафос освоения новизны, это свежесть новизны. Вот эти огромные пространства, на которые не ступала нога человека или ступала, но не осваивала их как-то,— это же не пафос туризма, это именно базаровский пафос освоения, когда «природа — не храм, а мастерская, а человек в ней работник», дословно цитируя слова Базарова. Меня это устраивает и мне это интересно. В этом есть утверждение самоценности человека и готовности бороться. И, кстати говоря, некоторая, как у Конецкого в частности, готовность объективно заглянуть в себя, ведь это действительно странствие в полное одиночество, в такую очень жестокую поверку себя мрачной и враждебной природой. В этом смысле, конечно, городская проза — она и скучней, и рутинней. И мне вот эти персонажи, они мне, пожалуй что, сегодня ностальгически симпатичны.
Есть ли у них сегодня наследники? Наверное, есть. Михаил Тарковский, в частности. Но проза Михаила Тарковского, мне кажется, отмечена гораздо большим самолюбованием и каким-то эстетическим консерватизмом, которого, скажем, у Конецкого совершенно не было. Поэтому проза Михаила Тарковского, щедро разбавленная его же стихами (скажем, роман «Тойота-креста»), она интереснее всего там, где речь идёт о природе, и неинтереснее всего там, где речь идёт об авторе или о героях.
Понимаете, здесь нет того конфликта, который в семидесятых был очень острый: а может ли жить с людьми, готов ли, умеет ли жить с людьми этот конкистадор? Ведь это, кстати, главный конфликт Гумилёва («И, тая в глазах злое торжество,// Женщина в углу слушала его»). Всё ему покорно — покорны ему моря, пустыни, леса. А вот женщину он покорить не может — может быть, потому, что женщину надо не покорять, а с женщиной надо сосуществовать, а это совсем другое дело.
И вот эту тему бытовой, человеческой, психологической слабости сильного человека в известном смысле реализует, кстати говоря, и Высоцкий в «Гамлете». Я даже рискнул бы сказать, что, может быть, эта тема и была главной у Высоцкого. Человек, который не теряется на войне, человек, который не теряется в науке, как Гамлет, который абсолютно свободен и прекрасно себя ведёт в ситуациях экстремальных, абсолютно путается в мелких интригах и не умеет играть в обычную человеческую игру, не умеет жить (вот в таком пошлом понимании слова). Да, это тема Высоцкого, кстати.
И я думаю, что Высоцкий — это идеальный персонаж и Куваева, и Конецкого, который его очень любил, и в каком-то смысле, наверное, Аксёнова, у которого тоже об этих людях и об этих местах довольно здорово было, ведь пафос аксёновских ранних рассказов — это тоже страстное освоение всего.