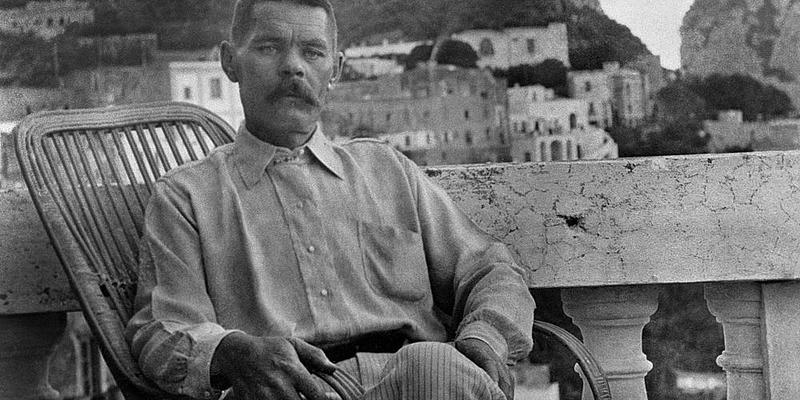Вот сейчас очень много говорят, что Горький (есть такая формула) великий писатель без великих произведений. Не сказал бы я так. У него есть очень много великих произведений. Просто не надо читатель хрестоматийные сочинения, не надо отвлекаться на «Девушку и смерть» или пересчитывать «Фому Гордеева», или наслаждаться советским канонам. Легче всего сказать, что великое произведение — это «Жизнь Клима Самгина». Ну, оно просто очень большое, и прежде всего потому, что там действительно, начиная с третьего тома, иссякает энергия повествования, как и в большинстве советских эпопей. Они все увязли. Один Шолохов с казачьим упорством сумел дотянуть до финала «Тихий дон», у всех остальных увязла в исторических колеях эта историко-революционная проза. Ну, просто замедление темпа очень чувствуется и в «Тихом доне», замедление темпа работы авторской. Уж в «Жизни Клима Самгина» последний том просто невозможно читать — дико скучно!
Но проблема в том, что Горький — это не про «Жизнь Клима Самгина». Горький — он, во-первых… Две великие заслуги исторические. Во-первых, Горький — это новая повествовательная ткань. Я бы молодым авторам, начинающим, от души бы рекомендовал читать горьковские, такие среднего периода тексты, между 1900-м и, скажем, 1928-м. Рекомендовал бы читать просто как школу такого увлекательного повествования. Сама фактура повествования, умение сразу, сходу выйти на сюжет, на проблему. Чтение таких его сочинений, как «Лето», «Жизнь ненужного человека», «Троя», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Дело Артамоновых»,— вот это способ увлекательного изложения. Он не ахти какой стилист, у него довольно много лишнего, много пафоса, напыщенности, оценочных описаний слишком много. В смысле пластики он велик, только когда описывает неприятные детали и противную внешность. Здесь он, конечно, большой молодец.
Но вообще говорить о Горьком как о стилисте, мне кажется, неправильно. Правильно говорить об увлекательности, плотности, фактурности его произведений. Когда он излагает историю, вы заслушаетесь. «Мальва», «Челкаш», «Супруги Орловы», даже ранние тексты — это просто шедевры. А романы несколько, может, однообразные. Действительно, если вы не умеете писать и хотите научиться, интересно рассказывать — ну, просто прочитаете «Лето». ещё раз говорю: это не бог весть какая вещь, и не лучшая у него. Но он мастер первой фразы. «Иван Акимович Самгин любил оригинальное». Все, уже не оторветесь. Он берет в плен читателя, потому что он классный журналист, рассказчик устный, новеллист. Не зря он в бесконечных повторениях оттачивал эти устные новеллы, и слушать его было наслаждение.
Вторая его заслуга и, может быть, более важная: действительно, Горького надо рассматривать в общем контексте европейского, отчасти американского модерна. Американского потому, что конечно, Марк Твен не зря так им интересовался, его полюбил при личной встрече в пятом год, они очень сошлись. Он, кстати, оставил замечательную одну страничку мемуаров о Марке Твене, где его видно, как живого. Значит, модернист он прежде всего потому, что видит недостаточно человека как проект. Горькому представляется, что человек есть нечто (по Ницше), подлежащее переплавке, человек есть нечто, что должно быть преодолено.
Но он зашел на проблему с довольно неожиданной стороны — он стал рассматривать феномен босячества не как феномен социальной (вот это самое важное и интересное), а как феномен мировоззренческий. Потому что для Горького босяк — это не отверженный, а отвергнувший, это человек, который не захотел строить свою биографию по прежним идиотским лекалам, это человек, который не вписался в мир. Ну, это, грубо говоря, Сатин, который действительно после тюрьмы… А он тоже, кстати… Вот интересный архетипический образ! Он вступился за честь сестры и убил её соблазнителя. Кстати, это редкая тема. Это фаустианская линия в Сатине. Ба-ба-ба! Оливер, с вашей помощью я совершил филологическое открытие, если об этом ещё никто не писал. Сатин как Валентин — это очень интересно.
Так вот, Сатин на самом деле не шулер, он художник. Старая мысль Синявского о том, что вор — эстетическая категория. Для Сатина его монолог «Человек! Это — великолепно! Человек» Это звучит… гордо!» — это не манифест утверждения человеческого достоинства, это своего рода давняя горьковская идея о том, что только люди дна имеют право на собственное достоинство. Голый человек на голой земле. Человек, который всего лишился, от всего отказался. И в «На дне», если вы помните, там очень важна эта тема переодевания. Барон — очень важный герой, именно для этого туда введенный, не зря его выиграл Качалов, и играл, говорят, сильнее Станиславского (Сатина). Барон произносит главную мысль: «Я всю жизнь только и делал, что переодевался. Вот я носил студенческую тужурку, носил фрак, носил арестантский халат, теперь ношу лохмотья. А где же я?» Так вот, то, что под лохмотьями — оно и есть Я. Для того чтобы человек начался заново, для того чтобы обнажилась его духовная сущность, он должен отказаться от всех оболочек и форм, он должен отвергнуть жизнь, в которой, да, от него требуются только переодеваться, ничего другого.
Эта мысль есть, кстати говоря, и в «Самгине». И тут закрадывается ужасное подозрение, что Самгин экзистенциальнее, умнее всех этих людей, он как раз к оболочкам не чувствителен, но он занят только своей внутренней пустотой. А бывает не только пустота. Бывает, по Стругацким, полная пустышка, бывает пустышка с содержанием. Поэтому мнение Самгина о том, что все люди одинаковы и все пусты,— это мнение обывательское. Там же, помните:
Ах, для пустой души
Необходим груз веры!
Ночью все кошки серы,
Женщины — все хороши.
Вот мысль о том, что все кошки серы — это величайшая пошлость. Люди разные. И Горький настаивает на том, что настоящий человек возможен, но для этого он должен сбросить личину, выпасть из жизни, сорвать маску, попасть в новые обстоятельства. Человек нуждается в радикальной перековке и переплавке. Эта мысль у него стала формироваться, я думаю, под влиянием двух источников. В первую очередь, конечно, Ницше («Человек есть то, что должно быть преодолено»), но он пришел к ницшеанству, я думаю, стихийно и прочел это только с чувством внутреннего совпадения.
А вторая мысль — ещё более важная и ещё более, мне кажется принципиальная — это, конечно, в «Пер Гюнте». Понимаете, «Пер Гюнт», я думаю, был одним из его любимых сочинений, потому что «Пер Гюнте» из главного героя собираются сделать пуговицу или ложку. Его надо переплавить, потому что человек — это только заготовка. «И Бог — это не реальность, это мечта. И мы должны стать коллективным богом, потому что Бог,— говорит он,— это идея преодоления животности».
В этом смысле и культура для Горького, мне кажется,— это тоже довольно важная такая вещь. И он стал обожествлять культуру под конец жизни, уже когда материальные произведения этой культуры, здания, книги, библиотеки стали для него важнее её духа. Но и тело культуры важно, потому что это преодоление человека, преодоление животности. В каком-то смысле он сомкнулся с идеями Мережковского насчет Третьего Завета: вот был закон, потом милосердие, а третий завет — это культура. Ну, у него ещё была мысль о том, что придет Богиня-Мать вместо Бога-Отца, но тем не менее потом он уверовал не в революцию, не в женщину, а в культуру более всего.
Как бы то ни было, он понимает недостаточность человека. А эта мысль и делает его великим писателем. Чем быстрее мы это поймем, тем быстрее мы станем чем-то большим и лучшим, чем человек.